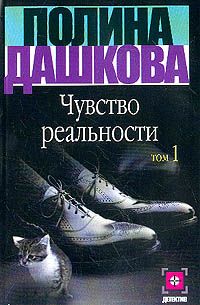— Есть. Зачем я вам нужен внутри ЦРУ?
— О, вы мне там очень, очень пригодитесь. Например, когда американцы будут распределять эти свои миллионы, они непременно посоветуются с вами. Когда за рубеж на частные банковские счета хлынет советское золото, им потребуются ваши комментарии.
— Предателям никогда не доверяют полностью, — быстро, хрипло заметил Григорьев.
— А что такое предательство? — усмехнулся резидент. — Мы с вами выросли на нем, мы им пропитаны, мы им провоняли насквозь. Мы вербовали, шантажировали, подсматривали и подслушивали, всасывали в себя из внешнего мира всякую мерзость — доносы, жадность, зависть, тщательно переваривали и обильно отрыгивали назад, во внешний мир. Именно предателям в наших кругах доверяют, у них учатся. Вспомните хотя бы Кима Филби. Ну ладно, это уже лирика. Нет ни времени, ни сил. Степень доверия к вам Макмерфи и его коллег зависит от вашего профессионализма. Еще вопросы?
— Если я уйду, у вас будут большие неприятности.
— Ничего, как-нибудь. — Кумарин растянул губы в противной лягушачьей улыбке и немного посверлил Григорьева насмешливым взглядом. — Вы все-таки продолжаете лукавить, Андрей Евгеньевич. Вы, вероятно, хотите спросить о своей дочери? Думаю, ее судьба волнует вас куда больше, чем мои неприятности.
Григорьев не хотел. Ему было страшно поминать Машу в этом кабинете. Ему казалось, что можно сделать вид, будто ему давно дела нет до своей прежней семьи и ребенка он просто забыл. С отцами ведь такое случается, верно?
— Если вас изолируют, а потом, не дай Бог, расстреляют, — задумчиво продолжал Кумарин, — у вас будет значительно меньше шансов увидеть Машу, чем если вы согласитесь на мое предложение.
— Если соглашусь, она останется в Союзе в качестве заложницы, — пробормотал Григорьев.
— В Союзе? Да вовсе не обязательно. Это зависит от ее матери, от нее самой. Если вдруг она пожелает навестить папу, переселиться к папе насовсем, а мама не станет возражать, мы поможем, нам без разницы, где она будет жить, — резидент ободряюще подмигнул, — мир только кажется таким огромным, на самом деле он маленький и совсем прозрачный.
Холодильник был выключен и пуст. Следовало выйти под дождь, купить себе что-нибудь на ужин и на завтрак, и еще приобрести множество всяких мелочей: шторку для душа, плечики для одежды, моющие средства, туалетную бумагу, бумажные полотенца. Со дна чемодана Маша вытянула маленький японский зонтик.
Одеваясь, она вспомнила, что папа говорил по телефону про похолодание и теплую куртку. У нее действительно с собой была лишь легкая ветровка. Натянув ее на самый толстый свитер, застегнув до подбородка молнию, она отправилась на улицу.
Бабки ушли спать. У качелей Маша заметила девушку с гигантским мраморным догом, подошла и спросила, где находится ближайший супермаркет, который сейчас еще открыт. Оказалось, довольно далеко, на другой стороне Тверской, на Большой Грузинской улице, называется "Дипломат", работает до двенадцати, а чуть дальше, на площади — круглосуточная Тишинка.
"Тишинка? Очень интересно. Там же был грязный блошиный рынок!" — удивилась про себя Маша.
Несмотря на холод и дождь, она все-таки не удержалась, пошла через Оружейный и Маяковку, чтобы еще раз взглянуть на дом, в котором родилась и прожила до тринадцати лет. Обошла его с тыльной стороны, постояла во дворе, задрав голову, взглянула на окно на девятом этаже, окно ее комнаты. Оно оказалось открытым, ярко освещенным, кто-то сидел на подоконнике, курил и смотрел вниз, на Машу.
Самая знакомая, самая исхоженная, выученная наизусть, как таблица умножения, часть Тверской-Ямской от Маяковки до Большой Грузинской изменилась, но не очень. Фасады домов стали чище, но лица прохожих как-то грязней. Не осталось ни булочных, ни аптек, ни гастрономов. Сплошные бутики, банки, магазины эксклюзивной мебели. Все стеклянное, ярко освещенное, холодное и пустое.
На Большой Грузинской сохранилась реликвия, старая булочная. Там когда-то продавалась засахаренная разноцветная помадка и маленькие сдобные крендельки, густо обсыпанные корицей. Напротив была валютная "Березка". Отчим, народный артист, иногда там отоваривался. Особенно хороша была вобла, прозрачная, обезглавленная, раздутая от нежно-розовой икры.
При советской власти у дверей стояла мощная охрана в милицейской форме, чтобы не дай Бог не заглянул внутрь обычный человек. Сейчас бывшая "Березка" по старой памяти называлась "Дипломат", и зайти мог кто угодно. Правда, оказалось, что работал супермаркет только до одиннадцати и уже закрывался. Пришлось пройти дальше, к Тишинке. Там и правда вместо старого рынка отгрохали нечто огромное, угластое, помпезное, с охраняемой стоянкой и автоматическими стеклянными дверями.
Оказавшись в супермаркете, Маша как будто на полчаса вернулась домой, в Нью-Йорк. Набрала полные пакеты еды и всякой хозяйственной дребедени, расплатилась карточкой "Америкен-экспресс", вывезла на улицу тележку с двумя тяжелыми пакетами и рассеянно оглядела стоянку, не понимая, куда мог деться ее сиреневый спортивный "Форд". Но тут же опомнилась и догадалась, что просто спит на ходу, с открытыми глазами.
Пакеты пришлось нести в руках. Дождь стал сильней, держать одновременно пакеты и зонтик было невозможно. Правая рука опять заныла, не только от тяжести, но и от переживаний. Ничего похожего на такси мимо не проезжало, к тому же Маша забыла снять в супермаркете в банкомате наличные с карточки, у нее не было ни рубля.
"Успокойся, добредешь, не растаешь, не так уж далеко, не так уж тяжело, и рука пройдет, тебе сто раз объясняли: это нервное".
У одних сердце колет, у других дыхание сводит, у третьих болит желудок. У Маши ныла правая рука, сломанная очень давно, в 1986 году, при прыжке с третьего этажа. Тогда перелом как-то неудачно вправили, потом опять ломали, кость не хотела срастаться, в мягких тканях остался осколок, рука посинела, вспухла. Наверное, всю жизнь будет болеть при нервных перегрузках и тяжелых воспоминаниях.
* * *
Метельной ноябрьской ночью 1985 года "скорая" доставила Машу в Москву, в какую-то районную детскую больницу. Сначала было два диагноза: перелом руки и переохлаждение. Позже появился третий, связанный с попыткой суицида. Подростковый психиатр явилась к ней уже на следующее утро. Толстая тетка ужасно напоминала Франкенштейниху. На голове, под зеленым медицинским колпаком, угадывалась волосяная башенка, похожая на крысу, глаза над марлевой маской были мутные, непроницаемые. Каждую фразу, обращенную к ребенку, она начинала с надменного "Та-ак!", растянутого и длинного, как червяк.
— Та-ак, Маша Григорьева, рассказывай, что с тобой случилось?
— Меня ночью вытащили из постели и заперли в холодной комнате, босиком, в одной ночной рубашке, — начала Маша, стараясь не встречаться взглядом с мутноглазой теткой.
— Вот просто взяли и заперли? Ни за что?
— Я читала под одеялом.
— Как это под одеялом? В темноте?
— Нет. У меня был фонарик.
— Та-ак. А почему же ты читала? Не могла уснуть? У тебя бессонница?
— Нет никакой бессонницы, — слегка рассердилась Маша, — просто я привыкла читать перед сном, и все.
— Та-ак. Ну ладно. Давай подробно, с самого начала. Ты читала под одеялом. Что было дальше?
— Воспитательница отняла у меня книгу, фонарик, потащила на третий этаж и заперла в холодной комнате. — Неожиданно для себя Маша замолчала и всхлипнула.
Рассказывать этой Франкенштейн-2 о том, как влажная лапа лысого парня нырнула к ней под рубашку, оказалось совершенно невозможным делом, просто язык не поворачивался, и, чтобы сменить тему, она попросила:
— Вы не могли бы связаться с моей мамой? Мне надо поговорить с ней, хотя бы по телефону.
Вместо ответа повисла странная тишина. Психиатр уставилась на Машу, тонкие подрисованные брови поползли вверх и поднимались все выше, пока не исчезли под ободком зеленой шапочки.
— Та-ак, деточка, — произнесла она наконец, совсем новым голосом, тихим, ласковым и фальшивым, — скажи мне, пожалуйста, как тебя зовут?
— Маша Григорьева.
— Сколько тебе лет?
— Тринадцать.
— Ты помнишь свой домашний адрес и телефон?
Маша продиктовала, удивилась, что тетка не записывает, только кивает, и тут же пояснила:
— Мама сейчас не дома, она в больнице, хотя не исключено, что ее уже выписали. Если дома никто не подходит, надо позвонить моей бабушке, Зинаиде Алексеевне, правда не стоит ей сразу рассказывать про мой перелом, у нее больное сердце… — Маша опять запнулась, застыла с открытым ртом, потому что тетка вдруг вскочила и, не сказав ни слова, пулей вылетела из палаты.
Вскоре из коридора донесся ее голос, уже не фальшивый, а вполне естественный, скандальный и злой:
— Как это — скрывают? Почему? Надо было предупредить, что она ничего не знает! Вы меня ставите в идиотское положение! Вы это нарочно, что ли, делаете? Как так можно, не понимаю!