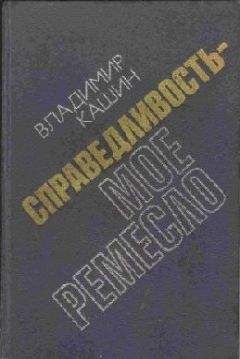По своему обыкновению, Решетняк смотрел по сторонам, удерживая в сознании все, что замечали глаза и схватывали уши, в том числе молчаливые, наглухо закрытые окна, темные подворотни, прохожих, которые спешили спрятаться в домах, торопливый стук женских каблуков, нервный цокот подков загнанного извозчиком рысака и шелестенье резиновых шин.
Но вот взгляд его остановился на знакомой куче тряпья. Оттуда слышался плач.
— Ты что, здесь и живешь?
— Здесь. — Лицо мальчика высунулось из-под лохмотьев. В полутьме оно было плохо видно. Только тлели, как угольки в пепле, заплаканные глаза.
— Как звать-то?
— Арсений.
— Сколько лет?
— Семь.
— Откуда ты?
— Отсюда.
— А родители есть?
— Мама умерла, а отец пропал.
Мальчик снова заплакал.
— А где живешь?
— Нигде.
— А где жил? С родителями? На какой улице? Ну, чего плачешь?
— Есть хочу.
Инспектор нащупал в кармане краюшку хлеба — паек, который нес Клаве Апостоловой. Но она-то уже большая, а он — пацан.
— На!
Мальчик подумал, что его дразнят, и заплакал громче.
— Да бери же, говорят!
Беспризорный обеими руками схватил хлеб и, всхлипывая и икая, жадно вцепился в него зубами.
— Жуй, не торопись, не глотай кусками. Не гусь! — сдерживал его инспектор. — Весь твой, не отберу.
Подождав немного, Решетняк снова принялся расспрашивать мальчика. Но мальчик не помнил, где он жил раньше, а только рассказал, что была у него сестра, но и она куда-то подевалась. Он уже в трех милициях ночевал. А сегодня утром его отпустили и сказали: «Иди проси, кормить тебя нечем».
Решетняк приказал мальчишке идти с ним рядом. Привел в ближайшее отделение, попросил дежурного, чтобы тот разрешил мальцу переночевать, а утром отвел бы в какой-нибудь детский дом, — может быть, и возьмут.
Возвращался Решетняк домой ночью. Вспомнил о маленьком нищем. Детские дома переполнены, в коллекторах, куда направляет беспризорных милиция, тоже давно уже нет мест. А разве не ради таких детей разрушен старый мир, пролито столько крови? Разве для того взяли в свои руки власть пролетарии и крестьянин-бедняк, чтобы погибали их дети?
У Решетняка кругом шла голова от таких мыслей. Он прошел мост и оказался у входа на самый большой базар города — Благовещенский. Сейчас тут было тихо, и в ночной темноте едва виднелись пустые длинные прилавки. Где-то в глубине базара прячутся по ночам медвежатники, фармазонщики, домушники, урки и всякая прочая нечисть, дерутся и режут друг друга, деля награбленное.
Решетняк глянул в черную пасть базара. Нет, ночью сюда не суйся! Он хоть и ходил один против целой банды, сейчас не отважился бы пройти через базар. Сколько раз устраивала милиция ночные облавы — и всегда натыкалась на вооруженное сопротивление.
Алексей Решетняк остановился, еще раз посмотрел на таинственно настороженную, переполненную дикими страстями базарную площадь. Вспомнилась Клава Апостолова, и, думая о ней, он медленно двинулся дальше. Конечно, она — дочь классового врага и контры. Но сама-то она не враг. Отец — одно, она — другое. Несколько дней назад Решетняк едва спас ее здесь, на базаре, от самосуда.
Он шел утром по базару с двумя патрулями. Вдруг крик, погоня. Впереди, перепрыгивая через препятствия, бежала растрепанная девушка с огромной паляницей в руках. За нею гнались несколько мужиков, а в рядах хохотали, свистали, улюлюкали — забава!
Какой-то мужик побежал наперерез, и воровка, натолкнувшись на него, с разбегу шлепнулась на землю. Паляница выпала из ее рук, покатилась, кто-то мгновенно подхватил ее, а к девушке подбежали преследователи, начали бить ногами. Решетняк сообразил: убьют! Бросился в толпу, засвистал в свисток. С большим трудом он и еще двое милиционеров разогнали озверевших пекарей. Поднял девушку с земли. Лицо было в крови, но он узнал ее: Апостолова! В который раз попадается на его пути эта несчастная дочь бывшего банкира!
Утихомирил мужиков, которые все еще жаждали крови и никак не могли угомониться, и приказал патрулям вести ее в милицию. Свидетелей не взял, потому что вещественного доказательства не было — кто-то где-то уже доедал золотистую паляницу. По дороге сказал милиционерам, что доведет девушку сам, а их отправил обратно на рынок.
Думал зайти на какую-нибудь фабрику, на одну из тех, которые уже начали восстанавливаться, и попросить, чтобы взяли ее на работу. Но кто же ее возьмет в таком виде? Да и вообще берут на работу только через биржу труда, где тысячные очереди, а нарушать порядок ему не к лицу.
— Ну, куда тебя девать? — сказал сердито. — Вечно путаешься под ногами. Иди-ка ты домой!
Она только глянула на него исподлобья и сразу отвела глаза. Но этот короткий взгляд, эти сгустки запекшейся крови на волосках девичьих бровей, это опухшее от голода, грязное, но по-детски нежное лицо и бессильно опущенные худые руки вызвали у него какое-то странное, ему самому непонятное чувство.
— Чего молчишь? — спросил он, чтобы не выдать себя.
— Нет у меня дома, — ответила она, не поднимая головы.
— Мачеха выгнала?
— И мачехи нет. В больнице. Сифилис замучил.
— А квартира пустая осталась?
— Кого-то вселили. Ваших пролетариев.
Из последнего прибежища — «меблированных комнат» — он выгнал ее сам.
— Пошли!
— Куда?
— На кудыкину гору.
Она не тронулась с места.
— Ко мне пойдешь. Временно. Приведешь себя в порядок, найдем тебе работу и жилье.
Зыркнула враждебно и зло:
— Не пойду!
— Дура! Я не трону.
Привел ее домой, показал, где стоит вода, где дрова, чтобы разжечь буржуйку, отыскал немного пшена на кулеш; сказал, чтобы сварила и поела, а сам опять пошел патрулировать.
Вернулся поздно ночью. В лицо ударил теплый и влажный запах выстиранного белья, которое сушилось над буржуйкой. Клава спала. Собрав сухое тряпье, постелила себе на полу. Укрыв ее шинелью, лег, не раздеваясь, на кровать. Что делать? Было жаль девушку. Думал не о том, что это дочь классового врага, который служил контрреволюции, а о том, сколько горя выпало на долю такой молоденькой девушки. Ходил на биржу труда, чтобы записать ее. Но специальности нет, будет ждать работы, пока не поседеет. Теперь ведь и мастера высокого разряда пол готовы мыть. Долго ворочался на кровати и, так ничего и не придумав, заснул.
Прошло несколько дней. И вот сегодня опять не выходит из головы Клава. Отвести домой, в бывший банковский особняк? Но он ведь конфискован, и в него действительно вселились рабочие механического завода с семьями. Вселить ее в одну из этих квартир? В квартиру — можно, но как вселить в семью? Рабочие ведь и сами голодают.
Решетняк не заметил, как подошел к своему дому, где жил в комнате с подслеповатым окном, которая когда-то служила хозяевам кладовкою. Мелькнула чья-то тень. Клава!
Девушка прошмыгнула с ведром в сени, а когда Решетняк переступил порог, в комнате зажегся свет. Он замер на месте. И не потому, что Клава раздобыла где-то огарок свечи. Даже в слабом мигающем свете было видно, какой чистой и приятной стала его запущенная каморка. На стенах и в углах не было больше паутины. Затоптанный черный пол был выскоблен ножом и добела вымыт. Небольшое оконце, впервые освобожденное от пыли, весело поблескивало.
Решетняк улыбнулся и пожалел, что отдал кусочек хлеба мальчику и Клава останется голодной. И вдруг услышал:
— Садитесь ужинать.
— Лапу сосать?
— Кулеш.
— Какой же кулеш, если вчера последнее пшено доели?
— Раздевайтесь, сейчас подам.
— Где взяла? — спросил строго.
— Не бойтесь, не украла. У соседей одолжила.
Он посмотрел в ее вымытое лицо, в ее глаза, которые показались ему детскими и такими же чистыми, как все кругом. И хотя над бровью ее по-прежнему расплывался синяк, неожиданно подумал — или, скорее, не подумал, а почувствовал, — какая красивая девушка! Рассердился на себя за это, проворчал:
— Я сыт. Завтра пойду с тобой на фабрику, как-нибудь устрою, так не годится…
Потом бросил на пол свою шинель:
— А ты ложись на кровать, от земли холодом тянет, простудишься.
«Нужно поскорее отдать эту комнату коммунхозу, а самому к ребятам перейти», — окончательно решил он и, успокоившись, начал прислушиваться к вою ветра в трубе и к отдаленному завыванию голодной собаки.
Он долго ворочался с боку на бок. Перед глазами все еще стояла Клава. Ее большие глаза, бледное лицо и худенькие детские руки. Что-то необыкновенное было в этой совсем молоденькой девушке, и даже не верилось, что жизнь бросала ев в самые глубокие ямы. Казалось, никакая грязь к ней не пристала, и, вопреки всему, осталась она чистой, будто наново родилась.
Всплыло в памяти далекое детство. С трепетом смотрел маленький Алексей из окна хаты, как клонит ветер к земле тоненькую веточку. Вот-вот сломается. Но какая-то неведомая сила оберегала деревце. После каждого порыва ветра оно выпрямлялось и снова становилось стройным и казалось даже выше ростом. «Так и Клава», — думал Решетняк.