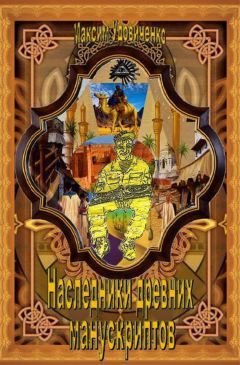Ознакомительная версия.
Цела и золотая цепочка, Наташин подарок на мой день рождения. Цепочку я так ни разу и не надел — мне всегда казалось, что мужчина с цепью на шее автоматически тупеет. Подарок пролежал пять лет в серванте, после чего я переложил его на верхнюю полку.
— Шлюха! — говорю я, подбирая с пола оповещатель.
Если бы не этот быстрый обыск, «Йота» так бы и лежала до конца дня под окном, и ее экран вынужден был наблюдать за медленным и едва заметным движением нависающих сверху штор.
Лучше бы Аглая оказалась шлюхой, и я знал бы об этом заранее. В таком случае мне не пришлось бы хоронить очередную надежду. Надежду, с которой я засыпал и которая граничила с сумасшествием. Ничем иным, кроме безумия и страсти свое намерение жениться на Аглае я объяснить не в состоянии.
Лучше бы она была шлюхой и честно взяла бы с меня деньги. Можно прямо из кошелька и пока я спал — так даже честнее, чем разбивать мою надежду. Я даже не стал бы пробивать ее личность по закрытой базе, имея на всякий случай пусть и личный, но вполне объяснимый повод — кражу личного имущества у сотрудника Следственного комитета.
И все же мысль о базе данных будоражит меня. Я изнываю от страсти к Аглае и не менее — от желания узнать о ней хоть что-нибудь, и при этом боюсь этих новых открытий. Опасности меня сейчас волнуют в меньшую очередь, гораздо сильнее угроза неведомых разочарований, среди которых на данный момент я подозреваю лишь фальшивое имя, но даже такая мелочь наглухо притупляет мое любопытство. Успокаиваю себя тем, что Аглая — мой тип женщины, идеальное попадание, точечная бомбардировка по моим чувствам и пристрастиям. Я точно знаю, что ее, во второй раз незаметно упорхнувшую из моего дома, впущу снова, лишь бы нам встретиться вновь.
Таких промашек, как сегодня, больше не будет. Я спрячу ключи от двери и не лягу спать, а когда она проснется, у подъезда уже будет ждать такси, которое отвезет нас в ближайший ЗАГС.
Поглощенный собственными планами, которые больше походят на утопию, я оказываюсь у дверей Театра у Никитских ворот. К кабинету Розовского меня ведет пожилая женщина, которую, не будь она кассиршей, покинувшей рабочее место ради меня, я мог бы вслух назвать старушкой. Идем мы с ней долго, и со стороны может показаться, что это я веду ее — так по-хозяйски она вцепилась в мой локоть и, кажется, не собирается отпускать его до самого кабинета.
— Мы с ним на двенадцать договорились, — тороплю ее я, но старушку мои слова, кажется, ничуть не задевают.
— Он же ждет, не вы, — отвечает она. — Так чего вы волнуетесь?
У кабинета главного режиссера мы останавливаемся, когда кто-то суетящийся внутри меня уже махнул на все рукой. Кассирша первой переступает порог, я же остаюсь за ее спиной и лишь поверх ее головы могу видеть, что в своем кабинете Розовский не один. С ним еще какой-то сухощавый человек, украшенный пронзительной сединой — от макушки до последнего волоска в густой и аккуратной бороде.
— Марк, я опять с кляузой, — говорит старушка, а я думаю, что так необычно меня еще не представляли. — Ты вообще по-мужски сможешь что-то решить?
— Клара Михайловна, что случилось? — спрашивает Розовский, и я не могу понять, кому он смотрит в глаза через стекла своих очков: мне или билетерше.
— С женщиной по-мужски можешь поговорить?
— Что, опять Ира, Клара Михайловна?
— Если я не нужна, так и скажите, — уверенно продолжает старушка. — Все-таки двадцать два года в театре, семнадцать лет как на пенсии — все понятно.
— Клара Михайловна…
— Я старая перечница, я еле шевелю ногами и с трудом — извилинами.
— Клара…
— Я медленно работаю и вместо одного часа обедаю почти полтора. Я все это знаю.
— Кла…
— И не надо меня утешать. И врать, говоря, как я нужна, или какой я для театра талисман, сувенир, знамя и что там еще… Не надо, Марк.
Она говорит все это, и повисает пауза, совсем как дым в кабинете Розовского, который добирается и до меня. В горле у меня, по крайней мере, уже першит.
— Клара Фельдман может быть кем угодно, — не успокаивается она. — Маразматичкой, калекой, старой дурой. Но никто не смеет называть Клару Фельдман воровкой!
Она срывается на крик и даже мне, стоящему у нее за спиной, хочется отпрянуть.
— Клара Михайловна, — не меняет привычной тональности своего треснувшего голоса Розовский, — я уверен, что Ира не имела в виду ничего такого.
— Ну я же не совсем еще выжила из ума?
Розовский поджимает губы, почти незаметно, но его молчание трудно назвать нейтральным. В конце концов, никто вслух не называл билетершу маразматичкой. Никто, кроме нее самой.
— Да найдутся билеты, — говорит Розовский. — Я уверен. Не переживайте и на Иру не обижайтесь. Что вы хотите — главный бухгалтер. Знаете, сколько у нее проблем?
— Понятно, — резюмирует билетерша. — Все хорошо, прекрасная маркиза. Давайте дождемся, пока на меня уголовное дело откроют.
— Клара Михайловна! — вскидывает руку Розовский, когда старая женщина поворачивается боком, чтобы исчезнуть из дверного проема.
— Ах, да! — останавливается она, заметив меня. — Марк, к тебе из милиции!
И я вхожу в кабинет, криво улыбаясь и чувствуя себя не более чем участковым.
— Я так и понял, что это вы, — жмет мне руку Розовский и жестом предлагает выбрать один из трех стоящих у стены стульев.
— Мы можем где-то поговорить? — даже не делаю попытки присесть я.
— Ну…, — он бросает растерянные взгляды по сторонам. — Мой кабинет подойдет?
— С глазу на глаз, я имел в виду.
— Вы же по поводу этого, — он морщится, — журналиста убитого?
— Карасина.
Розовский нетерпеливо кивает.
— Так мне нечего скрывать.
— Зато нам есть что.
— Да будет вам, — повернувшись ко мне спиной, он берет со стола пачку сигарет. — Я готов на всю страну заявить. Дрянной был человек, этот ваш Карасин.
— Я уже заметил, что в его отношении не действует известная пословица. О мертвых или хорошо…
— Жи-ды, — отчетливо произносит Розовский.
Человек с безупречной сединой улыбается мне. Он не так стар, как мне поначалу показалось. Сейчас, я не вижу другой опоры, я нахожу спасение в его взгляде.
— Жиды, — повторяет Розовский и выпускает очередную порцию дыма в разделяющее нас облако.
— Вообще-то у меня прадед еврей, — вспоминаю я семейную легенду, о которой мама рассказывала с улыбкой. Ее собственная жизнь сложилась так, что еврейство ее деда не могло восприниматься всерьез.
— У меня тоже, и не один, — кивает Розовский. — Получается, Карасин плевал и в наших с вами предков?
— Ммм, — мычу я. — Я не совсем понимаю…
— Можете даже записать, — указывает он пальцем в район моего живота, словно у меня за пазухой припрятан блокнот. — Марк Розовский считает Карасина бездарем, антисемитом и просто животным.
Бородач усмехается, и я вспоминаю, кого он мне напоминает. Такое же узкое и бородатое лицо человека из фильма «Москва слезам не верит», который беззвучно пел под гитару на пикнике.
— Я же не мальчик, — говорит Розовский, — готов отвечать за свои слова. Хотите доказательств? Сколько угодно. Гусман, — загибает он большой палец. — Гена Хазанов.
— Макси… — почти одними губами шепчет бородач, к которому Розовский оборачивается, держа загнутыми два пальца.
— Андрюша Максимов, — кивает он и загибает средний палец. — Как он его поливал! Это же верх неприличия!
— Максимов, — автоматически повторяю я, ничего не соображая.
— Да знаете вы его, — успокаивает Розовский. — Программа «Дежурный по стране» со Жванецким.
— А! — вскидываю голову я.
— Он ведь сам прекрасный режиссер, блистательный драматург. Его «Любовь в раю» — удивительный, тонкий, сложнейший спектакль. А «День рождения Синей Бороды»? А «Пастух», который поставили по его пьесе? Это все большие, знаковые постановки, это то, что, может, недооценивается современниками, ну так на то нам в наказание такие современники!
— Карасину «Пастух» действительно не понравился, — подтверждаю я.
— Ему не «Пастух» не понравился, — говорит Розовский. — Вы перечитайте ту рецензию, если, конечно, найдете.
— Мы собрали все его статьи.
— Тем более. Кстати, о Жванецком. У «нашего всего» есть исчерпывающая фраза по этому поводу. «Что может сказать хромой об искусстве Герберта фон Караяна, если ему сразу заявить, что он хромой?» — заканчивают хором Розовский и бородач.
— В этом — вся мотивация Карасина. Евреи — что хорошего они могут сделать для русского театра? — формулирует за покойного журналиста Розовский.
— Ну, не знаю, — говорю я. — Все зависит от одаренности конкретного человека, я так думаю. Не припомню, чтобы Карасин разбирал спектакли под, так сказать, этническим углом.
Ознакомительная версия.