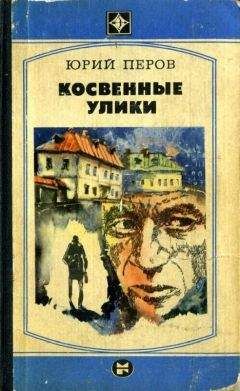Ознакомительная версия.
Когда Гриня рассказал все, Сухому сделалось жалко себя. Он чуть не заплакал, настолько остро и сильно подкатила эта проклятая жалость. Ему вдруг захотелось подойти к защитнице и уткнуться ей в плечо и поплакать. Никого ближе ее у него в зале не было. Те, что сидели сзади (наверное, Мишка, Андрюха, Рыжий, наверное, все… Только Санька, наверное, не пришел…), уже были чужими и враждебными.
И тут Васильев убедился, что интуиция или опыт не подвели его и на этот раз. Теперь он понял, откуда взялись тревога и ощущение опасности, не покидающие его сегодня. Он понял, что не зря волновался. И за молодых ребят, сидящих в зале, у которых в глазах ничего, кроме сочувственного любопытства, не было, и за Гриню, который теперь совсем вырвался из цепких и липких лап Суханова, и за Саньку Морозова, судьба которого еще была неясна.
Когда Горелов рассказал все и судьи собрались в кабинете Васильева, заседатель Игнатов закурил, а Стельмахович вынул пачку сигарет, бессмысленно повертел в руках и снова спрятал в карман и потом, когда он наконец нашел нужное слово, то так и сказал:
— Он «хазарь». Так они назывались у нас в Астрахани, когда я там жил с родителями… Не знаю, как они называются здесь, да это и не важно. Важно то, что он «хазарь». — Заметив непонимающие взгляды, Стельмахович пояснил: — «Хаза» — это на астраханском жаргоне то же самое, что хата, малина, словом, дом, куда можно прийти, где можно собраться без родителей, без посторонних, а хозяин такого дома — «хазарь». Это очень сложное понятие «хазарь». Вот я сейчас слушал Горелова и удивлялся тому, что «хазари» не меняются ни от времени, ни от места. У Суханова точно такие же ухватки и манеры, как у нашего астраханского Силы. Это была его кличка. Он любил говорить: «со страшной силой», и его сперва звали «страшная сила», потом просто Сила. Только Сила дергал не головой, а правым плечом, будто поводил им… Вот так, — и Стельмахович показал… — И еще у него справа снизу были два золотых зуба или две коронки, и он улыбался криво, одним правым углом рта.
— Так что же такое «хазарь», содержатель притона? Вроде трактирщика? — весело спросил Игнатов. Его забавляли серьезность и взволнованность Стельмаховича. Васильев, слушавший Стельмаховича с особым вниманием, болезненно поморщился на эту реплику, нетерпеливо попросил:
— Пожалуйста, продолжайте, продолжайте.
— Нет, это не трактирщик и не содержатель притона, но это и не главарь банды, хоть к нему и заглядывали другой раз бандиты (я говорю о нашем, астраханском), и он оказывал им небольшие услуги. Это был хозяин улицы. Они обычно не воруют и никого не подбивают на воровство. Вроде бы не делают ничего предосудительного с точки зрения закона, но все преступления, совершенные на нашей улице, начинались у Силы. Он никого к себе не звал, даже наоборот, когда к нему приходили, он криво улыбался своими фиксами и говорил: «А, пришлепали? Ну и что?» — и замолкал, и у него хватало выдержки молчать до тех пор, пока кто-то из ребят не придумывал какое-нибудь неотложное дело. До сих пор я еще не встречал человека, который мог вот так, одной улыбкой и молчанием внушить свою значительность. К нему приходили, как… — он замолчал, подыскивая нужное слово, — хотел сказать, как домой… Нет, это неверно. Это был не дом. Это была стая. Туда приходили, чтоб почувствовать себя сильнее, храбрее, взрослее, и, честное слово, находили все это. В стае ребята были непобедимыми. А Сила был центром этой непобедимости, и его кривая усмешка была гарантией. И еще одно… Очень важное… Мы были другими… Мы были застенчивыми. Поодиночке подойти к девушке, познакомиться — это было неразрешимой проблемой. А подойти и познакомиться мечтал, разумеется, каждый. Так вот, там, у Силы, в стае, эта проблема решалась просто: девушек развенчивали, лишали загадочного, волшебного ореола. В его доме учились цинизму. Учились незаметно. Это очень важно, что незаметно… Специально вроде никто и ничему не учил. Все просто рассказывали друг другу небылицы, изощрялись в грязных подробностях, и Сила, как медалью, награждал ребят своей золотой ухмылкой. И она ложилась на лоб как клеймо, и избавиться от этого клейма… — Он запнулся. Потом ухмыльнулся одним уголком рта, — я хотел сейчас сказать, что мало кто из той компании нашел свое семейное счастье…
Он надолго замолчал, но никто его не поторопил, как никто не посмел его перебить. Наконец он обвел всех долгим взглядом и, как бы осознав происходящее, сказал:
— И насколько ребята были сильны вместе, настолько каждый из них был слаб. Сильные в стае не оставались. Они уходили, как Горелов, а слабых «хазарь» держал за глотку. У стаи свои законы. Если ты слаб и просто ушел, ты становился парием на улице. Тебя все могли обидеть и стремились обидеть, потому что ты чужой, а заступиться за тебя некому. Заступался и вообще вершил судьбы «хазарь». Он ничего не делал своими руками. Он был перст указующий, а расправлялась стая. Иногда Сила позволял себе начать драку. Он подходил и бил первым, и бил страшно, но только один раз. Остальное доканчивали ребята. По-моему, потерпевший и есть человек, отвергнутый стаей. Он или был в ней, или привлекался, но оказал пассивное сопротивление, и его изгнали.
Мне показалось, что Гладилин знает и боится Суханова. Только этим можно объяснить его поведение и в тот вечер, и на другой день в училище, и здесь, на суде. Типичный уличный пария. У нас такие были. Но вот как объяснить поведение Сухого? Ведь он действительно не был пьян до беспамятства, и деньги ему были не нужны… Предположим, что у него сработал рефлекс на отступника, но тогда он просто бы дал ему пинка, а всерьез связываться не стал бы…
— Вы в этом уверены? — спросил внимательно слушавший Васильев.
— Абсолютно! — воскликнул Стельмахович.
— Что-то не верится мне, что в наше время могут существовать такие стаи и «хазари», как вы их назвали, — сказал Игнатов. — Я родился в этом городе, но ничего подобного не замечал.
— А я думаю, что Стельмахович в чем-то прав, — сказал Васильев.
Самым трудным в теперешней профессии для Васильева было почувствовать себя судьей. Именно так: не научиться быть, а почувствовать. Возможно, это произошло оттого, что профессию оружейника он выбирал сознательно, по любви, а судьей стал чуть ли не случайно… Впрочем, конечно, не случайно, но самому ему казалось, что случайно.
В 1942 году прямо из госпиталя его эвакуировали на Урал, в родные края. Надо было работать. А что он мог? С трудом передвигался, так как еще не привык к протезам. Нужно было искать сидячую работу. Нашел: устроился приемщиком в контору Заготживсырье. Ну что ж, кому-то надо работать и приемщиком, тем более что на другое ты не способен. Поначалу так и думал, что обречен на сидячую работу. И хоть подолгу не отпускал из конторы охотников, сдающих шкуры и мясо, все выспрашивал, жадно глотал мельчайшие подробности той внешней, закрытой четырьмя бревенчатыми стенами жизни, хоть поставил свой стол так, чтобы сидеть против маленького, тусклого окошечка, прорубленного прямо на родной уральский лес, вскоре почувствовал, что задыхается. Нет, эта работа не для него.
Он похудел, как в самые тяжелые времена в госпитале, когда месяцами не ощущал себя живым, когда и жить не хотелось…
Потребность в движении, в деятельности он чувствовал как жажду, физически, ежеминутно, до галлюцинаций. И собственная беспомощность доводила его до бешенства.
Вот тут и произошло то, что про себя называл случайностью. В газете прочитал, что в Казани при юридическом факультете организованы трехмесячные юридические курсы по подготовке судебно-прокурорских работников. Прочитать было мало, нужно еще было все продумать. И на это ушло несколько дней. Только потом решился послать запрос. Описал честно все свои обстоятельства и ответа ждал как приговора.
Он до сих пор считает, что тогда ему повезло. Если б отказали, то неизвестно, как все повернулось бы дальше.
И потом была учеба, но эту, в Казани, он будет помнить всю жизнь. Будто кто-то специально подтасовал его годы так, чтоб самая черная карта выпала вначале, словно кто-то намеренно испытывал его на прочность, на волю, на готовность к будущей работе…
В первый же месяц учебы Васильев свалился с тяжелейшим приступом аппендицита. Операция прошла неудачно, около двух месяцев он провел в больнице. Когда вышел, до экзаменов оставалось три недели.
Он не мог упустить этот шанс. Занимался чуть ли не круглыми сутками. Взял у товарищей конспекты, литературу. Соседи по общежитию, глядя на него, чувствовали себя бездельниками. Для них это не было единственным шансом, для них это была просто очередная попытка.
Экзаменаторы, зная о его судьбе, зная, что две трети занятий он пропустил, уважая его фронтовые заслуги, попытались спрашивать осторожно, чтоб не натолкнуться как-нибудь ненароком на провалы в знаниях. Васильев это почувствовал и разозлился.
Ознакомительная версия.