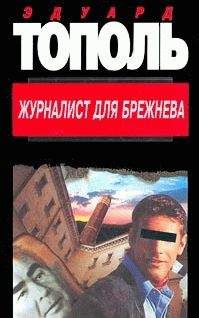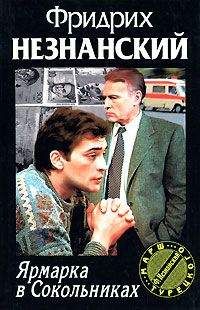В связи с тем, что тов. Белкин включен в состав пресс-группы товарища Брежнева на встречу глав двух ведущих держав мира, считаю, что для скорейшего розыска В.Белкина и преступников, похитивших его и Рыбакова, целесообразно создать следственную бригаду, включив в нее оперативных сотрудников МУРа. Выполнение этих действий одним следователем, в данном случае мною, крайне затруднительно, особенно, если учесть, что в настоящее время в моем производстве вместе с делом Рыбакова и Белкина находится 18 дел различной категории – из них 5 крупных хозяйственных дел и 3 убийства.
Следователь прокуратуры Москворецкого района Москвы
юрист 2 класса В. Пшеничный
21 июня 1979 года.
Нет, мне определенно нравится этот Пшеничный! Кроме одного ляпа – приглашения понятыми на осмотр квартиры Белкина соседей, которые оказались сослуживцами Белкина, – он, практически, еще не сделал ни одной ошибки. Я представил себе этого заваленного делами пожилого, усталого, с зарплатой 165 рублей районного следователя. Пять хозяйственных дел, три убийства и десять дел помельче – Бог ты мой, это какой-то вертеп, это круглый день вереница растратчиков и торгашей, обманывающих рядовых граждан при помощи его Величества – дефицита; это измученные трудом, бытом и пьянством мужья, избивающие своих жен до смерти; это квартирные драки и склоки; это бесчинства шпаны, которая толчется в подъездах; это винно-водочные будни государства, в котором почти 90 процентов преступлений совершается гражданами в пьяном виде. Полмиллиона уголовных и гражданских дел ежегодно рассматриваются судами Москвы, совершаются десятки тысяч арестов, сотни тысяч задержаний, и немыслимое количество дел – около миллиона по стране в год – передаются в народные суды, – и все это – будничная, ломовая, изнурительная работа тысяч рядовых, как этот Пшеничный, следователей. Он умница, этот Пшеничный. Безусловно, нужно создать бригаду по делу Белкина, и первым кандидатом в следственную бригаду будешь ты сам, следователь Пшеничный. Несмотря на то, что на тебя пожаловался сам редактор «Комсомольской правды», и у тебя изъяли дело – это мы уладим, это я возьму на себя…
Вторым… вторым, пожалуй, можно взять Светлова – это ищейка с хорошим нюхом. Конечно, он уже подполковник, начальник отделения МУРа, то есть, из хорошей розыскной ищейки стал еще и хорошим администратором, боссом, но надо бы именно его заполучить со всем его штатом.
Размышляя над этим, я вскрыл подшитый к делу большой серый конверт и извлек из него тот самый пресловутый блокнот Белкина с пометкой «Ташкент–Баку, № 1, апрель-май 79», в котором, по словам Пшеничного, «сообщалась важнейшая для следствия информация». Блокнот был исписан стремительной, малоразборчивой, а местами и вообще неразборчивой скорописью.
Вместе с блокнотом в конверте лежало 48 пронумерованных и соединенных скрепками страниц машинописного текста, найденного Пшеничным на квартире Белкина. По-видимому, Белкин перепечатал блокнот на своей «Колибри».
Я закурил, откинулся в кресле и принялся за чтение.
Рукопись журналиста Белкина (начало)
Я не могу больше носить это в себе. Если я не отдам бумаге весь ужас случившегося – впору топиться в Каспийском море. А если отдам ВЕСЬ ужас – кто это прочтет, а точнее – куда это спрятать от читателя? Придется правду гримировать вымыслом, а вымысел – правдой и назвать потом «приключенческой повестью»…
Глава 1. Гроб без покойника
В мае 1979 года я, Андрей Гарин, спецкор «Комсомольской правды», самой популярной молодежной газеты в СССР, летел из Ташкента в Баку. Честно говоря, командировка у меня была только в Южный Узбекистан, а еще точнее – в Сурханские отроги Памиро-Алтая. Там, в горах, экспедиция гляциологов Академии Наук СССР опробовала новый метод растопления ледников с помощью запыления их с воздуха угольной пылью и сажей, и я то лазил с этими гляциологами по горам, то летал на «Аннушках» с летчиками сельхозавиации.
Внизу под нами зеленым ковром лежали хлопковые плантации, изрезанные огромными ярко-красными лоскутами маковых полей. Начало мая – самое время цветения маков, и потому ало-багровые маковые поля уходили вверх, по склонам гор, словно пламя взбегало в горы на высоту двух тысяч метров, и только белая черта вечного снежного покрова останавливала этот пожар. Я не знаю, что больше приносит доход местным колхозам – огромные хлопковые плантации в долинах или эти горные лоскуты полей опиумного мака, который здесь выращивают для медицинской промышленности. Конечно, я наслушался здесь самых фантастических историй о контрабандистах-афганцах, которые якобы переходят из Афганистана за опиумом по тайным горным тропам, и если бы я лично не написал в свое время серию очерков о пограничниках, и не знал, как тщательно охраняется действительно каждый клочок земли на границе, я, думаю, смог бы поверить в эти бредни. Во всяком случае, когда мы как-то хорошенько выпили с начальником местной погранзаставы майором Рыскуловым, и я напрямую спросил его об этих контрабандистах, он расхохотался и сказал: «Это самый большой анекдот, дорогой! Здесь без моего разрешения даже ящерица не проползет через границу!» – «А с разрешением?» – спросил я. «А с разрешением – это уже не контрабандист», – усмехнулся он и перевел разговор на другое. За день до отъезда из командировки вертолетчики Чаршанга без хлопот подбросили меня за эдельвейсами в нейтральную зону, в горную долину эдельвейсов. Конечно, дежурная служба «воздух» запросила у нас пароль, а потом дежурный офицер выматерил нас за то, что мы совершили посадку в нейтральной зоне без спецразрешения, но я взял у пилота ларингофон и спел пэвэошникам: «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты!..». Действительно, Высоцкий прав – таких нежных, зеленовато-желтых и байково-мохнатых эдельвейсов, мягоньких, как лапки у котенка, я не видел за все десять дней командировки, сколько ни лазил с гляциологами по ледникам и горным хребтам Сурхана.
Теперь же я вез из командировки в Москву целый котелок роскошных эдельвейсов – черный плоский походный котелок с выцарапанными на нем фамилиями участников экспедиции, его подарили мне ребята-гляциологи для нашего редакционного музея. Я еще не знал, кому именно буду дарить эти эдельвейсы в Москве, я был как раз в паузе между очередными влюбленностями, но, зная свою влюбчивую натуру, был уверен, что эдельвейсы не залежатся в этом прокопченном котелке. Мог ли я думать тогда, что эта следующая влюбленность обернется для меня таким роковым образом? Впрочем, не будем забегать вперед, запомним только, что я увез из этой командировки целый сноп эдельвейсов, облупившийся от солнца нос, черный походный котелок, пропуск в погранзону и пропуск на Чаршангский погранично-колхозный аэродромчик, подписанные начальником ПВО Средне-Азиатского военного округа генералом Федосеевым, а также несколько блокнотов с заметками для будущего очерка и здоровую усталость от хождения по горам. Конечно, пропуски в погранзону и на аэродром нужно было сдать в Управление погранвойск в Ташкенте, но после утомительного полета «Чаршанг–Самарканд–Ташкент» стоило ли ехать с аэродрома в центр города только для того, чтобы сдать пару бумажек в спецчасть ПВО, а затем мчаться обратно на аэродром, чтобы успеть к московскому рейсу? Да обойдутся они без этих пропусков, решил я, к тому же надо быть последним идиотом, чтобы не оставить у себя такой сувенир – пропуск в погранзону.
Устало сидя в кабинете начальника ташкентского аэровокзала (он вызвал к себе старшего кассира оформить мне билет до Москвы, чтобы не стоять мне в чудовищной очереди в кассе) и слушая московское радио: «В Москве плюс четыре, низкая облачность, мелкий дождь…» – я вдруг подумал: а залечу-ка я в Баку к бабушке, поваляюсь там на бабушкином диване, порыбачу со старыми друзьями в Каспийском море, там же и очерк напишу о гляциологах, какая разница – буду я его в сырой Москве писать, в редакции или у бабушки в Баку!
– Вот что, – сказал я седому, заискивающему перед столичным корреспондентом, кассиру. – Пишите мне билет «Ташкент–Баку–Москва». Я вспомнил, что у меня еще в Баку есть дела. Когда у вас на Баку самолет?
Кассир вопросительно посмотрел на начальника аэровокзала, но тому было все равно куда спровадить московского корреспондента, лишь бы я поскорей убрался из аэровокзала и не видел, какая тут толкотня и давка за билетами, не написал об этом критической заметки в свою газету.
– Значит, сначала в Баку? – спросил начальник аэровокзала.
– Да, – ответил я решительно.
И пока кассир выписывал мне билет, зеленая и прохладная каспийская волна уже вошла мне в душу, укрыла невесомой и прозрачной плотью, и я ясно понял, как здорово я решил – сразу после прожаренных на солнце узбекских гор, после лазаний по грязным, запыленным углем ледникам бултыхнуться в зеленую воду родного Каспия, удлинив ноги ластами для подводного плавания и охоты.