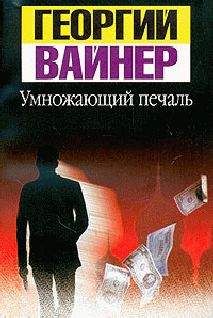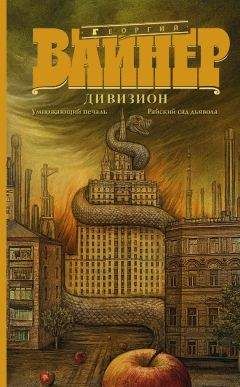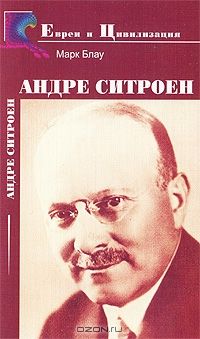– Не ври, это не твой знакомый. Это Шекспир говорил…
– Да хрен с ним! Какая разница? Не влияет. Для тебя важно, что, если не пьешь в одиночку, значит, умрешь не от пьянки.
– Наверное, – кивнул я. – Не успею…
Смаглий выпил, сморщился, затем блаженно ухмыльнулся:
– Хорошо! Ох, хорошо! Коньяк – дрянь, а парень ты интересный.
– Чем?
– Халявный марочный коньяк не пьешь. Только на свои бабульки?
– Я на халяву не падаю.
– А если друзья ставят?
– Это не халява. Это, дурак, обмен любовью… Моя подружка так говорит.
– Н-да? – удивляется Смаглий. – Наверное, впрочем… Слушай, я тебе с утра хотел сказать, да все эта хива конвойная под ногами мельтешит…
– У нас с тобой от них отдельных секретов нет, – спокойно заметил я.
– Ну, это как сказать… Если бы ты так не надрывался, отлавливая меня, я бы тебя сам сыскал.
– Оказывается! – Я искренне засмеялся. – Это зачем еще?
«…Услышу ли песню, которую запомню навсегда…» – пел Бутусов.
– Зачем! Зачем! Я ведь только сегодня понял, что ты – это ты! Что мне ТЕБЕ привет передать надо! Налей еще по стопарю, я с тобой ХОЧУ обменяться любовью.
– Интересное кино! – Я действительно удивился, но коньяк налил, закрутил пробку фляжки и убрал ее в карман. – «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало.»
Смаглий одним глотком дернул коньяк, вытер рот рукавом своего великолепного пиджака, отхлебнул минералки. Потом ровно сказал:
– Тебе привет от Кости Бойко…
Я допил свой деревенский коньяк, посидел неподвижно. Наверное, мое лицо было непроницаемо слепо, как у спящих попутчиков в черных наглазниках.
И Бутусов в рябой голубоватой линзе телевизора пел, закрыв глаза – от страха? от боли?
В терпком воздухе крикнет Последний мой бумажный пароход…
Гудбай, Америка, о-о!…
Я медленно спросил:
– Вместе сидели?
– И сидели, – радостно подтвердил Смаглий, – и пили, и гуляли – жили, одним словом…
– Значит, ты – в Париже, а Кот – на зоне?
Смаглий грустно усмехнулся:
– Скорее наоборот. Я, считай, на зоне, а Кот – откинулся. На воле он.
– Откуда знаешь?
– Знаю, и все. – Смаглий взял с моего столика яркий журнал, показал портрет на обложке. "Александр Серебровский: «Олигархи нужны России!».
Молодой интеллигентный человек в добролюбовских очках насмешливо-осторожно улыбался мне.
– Это ведь тоже твой дружбан? – уверенно сказал Смаглий. – Если ты Кота не прикроешь, этот милый паренек уроет его по самую маковку. И на тебе грех будет…
– Ты меня снова пугаешь?
– Нет. Правду говорю.
– А как я его прикрою? Меня через пару дней назад отправят… – И поймал себя на стыдной беспомощности в голосе.
– Не знаю. Ты подумай, – сказал Смаглий, и тон его был не шутовской-развеселый, а скребуще-жесткий, как напильник, и звенели в нем сила и властность, и сам он в этот миг был меньше всего похож на разнаряженного валета. – С коллегами не разговаривай – они на корню все куплены, в ломбард заложены, на рынке проданы А вон твой конвойный уже назад прет. Запомни телефон для связи, нет-нет, не записывай, запомни, он простой -717-77-77.
АЛЕКСАНДР СЕРЕБРОВСКИЙ: ОЛИГАРХИЯ
– Сколько времени?
Все повернулись ко мне. Вдруг захотелось – как тысячу лет назад в детстве, которое, наверное, отменено за давностью, – пропеть им дворовую считалочку-дразнилку:
Сколько время?
Два еврея!
Третий – жид
По веревочке бежит.
Веревочка лопнула
И жида прихлопнула…
Не стоит. Вениамин Яковлевич Палей и Окунев обидятся. Не обидятся даже, а испугаются – решат, что я им грожу. Пугаю.
А грозить мне им пока не за что. Вон как они – и Палей, и Окунев, и вся остальная команда – дружно сделали отмашку левой рукой, будто офицеры на строевом смотре: задрали обшлага дорогих пиджаков, вперились в увесисто лежащие на запястьях одинаковые золотые цилиндры «Картье-Паша». Это не случайное совпадение вкусов и не примета одновременно пришедшего нуворишеского достатка. Будем считать это знаком особой принадлежности – вроде шитых золотой канителью погон. Или боевого ордена. Хотя орденов по 26 тысяч баксов не бывает. В Нью-Йорке на Брайтоне орден Ленина стоит пять сотен – за золото и восемь граммов платины уважают. А все остальные советские регалии – по двадцатке. Господи, если бы мой отец мог себе представить, что ею героические цацки, которые он с гордостью надевал по праздникам на специальный – парадный, орденский – бостоновый синий костюм, будут стоить по двадцать долларов штука. Эх вы, бедная технологическая интеллигенция!
«Не надейтесь на князи, на сыне человеческие, – сказано в Псалтири. – И почести их, и гнев их – проходят».
– …Без одной минуты десять, – быстрее всех сказал Палей, лысоватый пожилой ловчила с быстро шарящими глазами, похожий на антисемитские карикатуры в фашистских газетах.
– Двадцать один час пятьдесят девять минут, Александр Игнатьевич, – сообщил Коротков, брыластый мордоворот с красным затылком, мой самый надежный продолжатель дел и традиций советской партийно-государственной системы в нашей ненадежно-зыбкой рыночной жизни.
– Осталось ровно тридцать пять секунд, – дал справку Анкудинов, сухой беловзорый старикан, богатый до отвращения и оттого с неизгладимой печатью бухгалтерской нищенской участи на костистой роже.
– Уже пора, наверное, Сашенька, – проворковала моя хищная горлица Алябьева, пока еще броская, вроде бы интересная, но маленько перезревшая ягода. От нее наносит сладостью тлена.
Оганесян – утомленно-расслабленный джентльмен с тонкими руками профессионального игрока. Окунев и Костин, американизированные молодые парни в изящных золотых очечках, подмигивают друг другу, что-то щелкают на карманных компьютерах. Сафонов, надежа моя и защита, – жесткий крутой мужик, на котором костюм от Оскара дела Рента сидит как плохо подогнанный, еще не обмявшийся мундир, кивает:
– Время…
Моя команда. Зверинец. Коллекция. Гербарий ядовитых редких растений, который я заботливо и долго собирал. Я их, естественно, не люблю, но ценю.
В этой крошечной стране, на одной шестой суши, найти других, получше – невозможно. Пускай будут эти.
Из мутной синевы телевизионной заставки вынырнула ведущая Татьяна Миткова и сказала мне своим обычным доверительно-неофициальным тоном:
– Главное событие дня – Президент Российской Федерации Борис Ельцин принял сегодня в Кремле крупнейших представителей российского частного капитала…
На экране в голубовато-бирюзовом интерьере Владимирского зала мы выстроились неровной шеренгой. Чудовищное зрелище! Пионервожатым на линейке магнатов – миленький, молоденький, маленький, пузырящийся от тщеты премьер-министр Кириенко.
А вот и президент наш явился, не запылился. Державный, могучий, почти самоходный. Гыкает, рыкает, ласково-хамски шутит, чинно ручкается. Ладонь толстая, неподвижная, вялая.
А Телетаня бойко щебечет:
– …На встрече, посвященной обсуждению насущных вопросов российской экономики и социального положения в стране, присутствовали Председатель правления РАО «ЕЭС» Анатолий Чубайс, Председатель правления «Газпрома» Рем Вяхирев, руководитель «Онэксим-банка» Владимир Потанин, Президент «Менатепа» Михаил Ходорковский, Председатель правления холдинга «Росс и Я» Александр Серебровский, Президент холдинга «Мост» Владимир Гусинский, Президент «СБС-Агро» Александр Смоленский…
Я взял со стола пульт и выключил телевизор.
Все нормально. Бред. Миллиардеры не могут сбиваться в стаи. Это сюр. Толпа магнатов – штука противоестественная, разрушается идея элитарности личности властителя, единичности занятия. Ничего не поделаешь. Стадо. Бездна незапоминающихся имен.
А себя назову Мидасом. Моя родословная – Мидас, Гордиев сын, властитель Абдеры – страны дураков…
Тишина. Я ткнул пальцем в американистого Окунева:
– Следующий! Что с залоговым аукционом? Докладывайте…
КОТ БОЙКО: ПОЛЕТЫ ВО ВРЕМЕНИ И НАЯВУ
Крутанулась стеклянная вертушка двери и с тихим шелестом вбросила меня в вестибюль. И сердце радостно и тоненько заныло.
Господи, Боженька ты мой родимый! Сколько же меня здесь не было! Как же все это шикарно-базарное великолепие могло здесь жить без меня? Я ведь, прошу учесть, по своему марксистско-материалистическому мировоззрению – упертый идеалист. Может быть, отчасти даже солипсист, в какой-то мере по большому счету – если как отдать. То есть все, что мой разум с помощью пяти или шести – точно не помню – чувств не воспринимает, того нет. Нет!
Как бы не существует.
Да я нассу в глаза любому, кто попробует антинаучно и противоестественно доказать мне, что долгие годы – на все время моей вынужденной отлучки – существовал без меня этот вестибюль гостиницы «Интерконтиненталь», или, по западно-заграничному, – лобби.