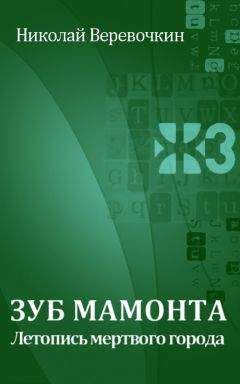Но ему не хотелось есть товарища Шпилько с потрохами.
Вот уже пять минут он сидел напротив товарища Шпилько в пустом кабинете и мрачно смотрел, как пышно колышется ее грудь. Сердце Грозы словно под контрастным душем попеременно погружалось то в холод поднебесных инструкций, то в жар разрушительного чувства.
Настенные часы сурово отсчитывали попусту растрачиваемые секунды. Мелодичным голосом товарищ Шпилько делилась трудностями, возникшими в ходе случной кампании, объясняла причины, повлекшие за собой высокий процент яловости поголовья. Но инспектор Гроза не мог сосредоточиться. До его ушей доходила лишь мелодия.
Гроза думал о вещах посторонних, далеких от сельского хозяйства. Он думал о муже товарища Шпилько, бухгалтере райфо. Должно быть, несчастный человек, лишенный мужского достоинства. Готовит ужин, пеленки стирает. И этот безответственный, возможно, даже беспартийный тип каждую ночь спит с первым руководителем района. Эта мысль покоробила Грозу. Товарищ Шпилько, значит, руководит, дает, понимаешь, установки, читает доклады, снимает, в конце концов, с должности, а в это же время какой-то рядовой гражданин... Противоестественно, просто подрыв авторитета властей. Наглость какая. Никакой субординации, элементарное неуважение.
Инспектор Гроза удивлялся глупости природы. Кроме мужчин и женщин, логика вещей требовала создания особой породы людей - руководителей, лишенных низменных потребностей. Вот это были бы кадры! Никакая аморалка к ним не прилипла бы. Хорошо бы, если к тому же они бы не испытывали потребности в еде, были лишены всех этих гадких отправлений организма.
А между тем пышная грудь товарища Шпилько все колыхалась и колыхалась, и звуки ее голоса, вливаясь через уши Грозы, наполняли его пьянящим, легкомысленным настроением. Одежды стали тесны инспектору.
Неожиданно для себя он возложил свои маленькие сухие ладошки на полные руки товарища Шпилько и задушевным голосом проповедника сказал:
- Все мы люди, все мы не без недостатков.
Товарищу Шпилько это было хорошо известно. Но она так же хорошо знала, что именно повинную голову с наибольшей вероятностью сечет меч. "Дудки, подумала она, - ты меня на мякине не проведешь", - и приготовилась до последнего защищать кресло, на котором в данный момент сидела.
А Гроза все ходил и ходил вокруг да около в прямом и переносном смысле.
Как маленькая холодная Луна, он вращался вокруг т-образного стола, за которым восседала в тревожном предчувствии товарищ Шпилько, и развивал мысль о взаимосвязи доверия и ответственности.
Конечно, товарищ Шпилько догадывалась, что сам по себе Гроза явление малозначащее. Она справедливо полагала, что Там, наверху, он вообще мелкий ноль без палочки. Пожилой мальчик на побегушках. А его молниеносные, опустошительные командировки, сопровождающиеся раскатами грома небесного, лишь следствие атмосферного электричества вышевисящих туч. И тем не менее она боялась его. Страх был особенный, языческий.
Так, наверное, боялись какого-нибудь пропитанного жиром истукана наши волосатые предки и падали ниц перед каким-то бездомным котенком со слезящимися глазами египтяне.
Не перед куском трухлявого дерева или полудохлым котенком, а перед грозным и непонятным, что стояло за ними.
К тому же товарищ Гроза был не просто мечом карающим. Товарищ Гроза мог сформировать мнение - маленькую искорку, из которой и рождается роковая молния.
Вот почему к приезду Грозы был выкрашен штакетник на центральной улице райцентра, и местные пьяницы, имевшие обыкновение передвигаться вдоль забора, были похожи на зеленых лягушек. Продавцам было велено надеть кокошники и организовать неделю изобилия, в результате чего торговые точки напоминали пчелиные матки во время роения. И делалось это вовсе не для того, чтобы втереть очки Грозе. Это было рядовое языческое жертвоприношение, сигнализирующее высокому гостю: о ответственный представитель, мы боимся и уважаем тебя, и хотим, чтобы ты знал об этом.
Остановившись за спиной товарища Шпилько, Гроза возложил длань на ее мягкое плечо и заговорил о бдительности и принципиальности.
Круги сужались.
Речь шла о директоре совхоза "Вперед к светлым вершинам", под видом подозрительного эксперимента пытавшегося реставрировать капитализм в одном, отдельно взятом хозяйстве, и о молодом, перспективном, но слабо подкованном политически руководителе района, который за высокими производственными показателями не смог разглядеть пагубной сути явления.
Суровые, тяжелые, как пули, слова вылетали из уст Грозы. А между тем его сердце буквально плавилось от сдобного тепла, исходящего из плеча товарища Шпилько. Ему страстно захотелось покровительствовать, опекать и наставлять нижестоящего товарища. Инструкция, написанная в стихах, произвела бы менее странное впечатление, чем лицо инспектора Грозы в этот момент.
Склонившись к уху товарища Шпилько, он горячо шептал:
- Дело зашло слишком далеко. Но вы можете поправить положение. Кончайте его. Сами. Завтра же.
Остановись инспектор на этом, отпрянь от спинки кресла, закрой глаза... Да что там - стукни кто-нибудь в дверь, зазвони телефон...
Всю жизнь Гроза с болью и омерзением будет вспоминать эту секунду. Это розовое ухо товарища Шпилько, луговой аромат ее прически, вздымающуюся грудь.
Рука инспектора Грозы скользнула вниз, и в следующую секунду сработал неистребимый женский инстинкт.
Нокаутированный чудовищной пощечиной инспектор Гроза был отброшен к книжным стеллажам и похоронен под полным собранием сочинений.
Бедная, бедная товарищ Шпилько.
Искренне верующий настоятель храма, плюнувший в лик божий, человек, потративший все сбережения на строительство дома и поджегший его, испытывали бы меньшее раскаяние.
Закрывши изнутри двери кабинета, товарищ Шпилько извлекла тело Грозы из-под пыльных томов. Ярко-красный отпечаток пятерни зловещим клеймом светился на побледневшем лице Грозы. Без очков оно было совершенно бабье. Глядя на безвольные черты, товарищ Шпилько испытала оцепенение, как человек, которому внезапно открылась страшная государственная тайна. Очки, к счастью, уцелевшие после сокрушительного удара, были найдены и водружены на нос инспектора. Безжизненное лицо его мгновенно стало властным и неподкупным.
Набравши полный рот воды, товарищ Шпилько обильно оросила ею грозный лик инспектора.
Действовала она быстро и решительно. Едва пришедший в сознание, полуоглушенный инспектор был нежно повлечен в комнату отдыха - уютное гнездышко, служившее приложением к кабинету. В приятном полумраке по-домашнему светился фарфор чайного сервиза, на стене вместо государственного деятеля висела репродукция картины Айвазовского, на телевизоре в хрустальной вазочке несерьезно благоухал букет полевых цветов.
Инспектор был заботливо уложен на кушетку. Присевши на ее краешек, товарищ Шпилько ласково растирала виски медленно отходящему от нокаута высокому гостю. В пылу борьбы за его жизнь строгий костюм сам собой неофициально расстегнулся. Белоснежное пено кружев слепило глаза, упругое бедро согревало.
- Бедненький, - прошептала она, касаясь кончиками пальцев огненно полыхающей печати на щеке Грозы.
Женщины и руководящие работники не просят извинения за допущенные ошибки.
Они решительно их исправляют. Но в то самое мгновение, когда лицо товарища Шпилько склонилось на расстояние, где проходит граница интима, по-особенному резко и требовательно зазвонил телефон. Он просто зашелся в истерике.
Звонили из Центра. Товарищу Шпилько было предложено немедленно прибыть.
Побледнела товарищ Шпилько и застегнула костюм на все пуговицы.
***
Вечером инспектор Гроза был отвезен в один из полуподпольных залов, который имеется при любой совхозной столовой для приема представителей вышестоящей власти. Отделан он был с грубоватыми претензиями на красоту, в настенных росписях эклектически соединялись официоз и фривольность. Здесь были и березки, и красавицы в сарафанах, и мощные трактора, и силосные башни. От блестящих лаком стен, отделанных под дерево, от потолка с вензелями и громоздких люстр убийственной яркости у нормального человека начинала болеть голова.
Стол поражал обилием блюд. В центре его на подносах дружелюбно улыбались друг другу поросенок и барашек. Они были довольны столь славным завершением недолгой карьеры. Им предстояло быть съеденными большими людьми.
Крутобедрые коньячные бутылки истекали от истомы. Полыхал фруктово-ягодный пожар. Об апельсины можно было прикуривать сигареты. Пышные горки блинов придавали дастархану нечто домашнее, интимное. Непроизвольно и судорожно дергался кадык при виде казы, чужука и прочих деликатесов, обсыпанных зеленым горошком и сочным слезящимся луком.
У человека неизбалованного этот стол мог вызвать лишь одну мысль: нажраться бы от пуза и можно помирать.