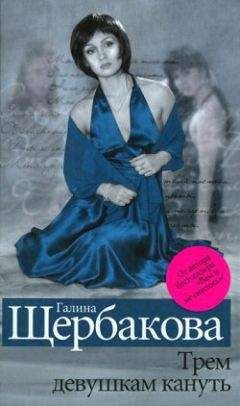Ознакомительная версия.
– Да нет! Нет! – закричал Юрай. – Она же старая дева! Разве я тебе этого не сказал? Типичная старая дева со всеми комплексами.
– Я хочу ее увидеть, – упрямо сказала мама. – Скажи ей, что я ее приглашаю.
Вот это он и сказал Нелке в первом же разговоре по телефону.
– Тебя хочет видеть моя мама.
На том, другом, невидимом конце этой не до конца понятной простому человеку телефонной связи наступила тишина.
– Эй! – крикнул Юрай. – Эй! Ты где?
– Передай твоей маме большое спасибо, – вежливо ответила Нелка. – Если она приедет к тебе в гости, я буду рада с ней познакомиться.
– Она хочет, чтобы мы с тобой приехали к ней. – Юрай это произнес, хотя все шло к необязательным: «Спасибо». – «Пожалуйста». – «До свидания». А вот сказал совсем другое, сказал и замер в ожидании тишины. Но на этот раз Нелка ответила сразу.
– Жаль, но у нас едва ли совпадут отпуска. Ты уже отгулял, а у меня все впереди, так что вряд ли… Да, кстати. Мне тут Сулема звонила. Работу ищет.
– Ну как она? – спросил Юрай.
– Но ты-то про нее знаешь лучше меня, – тихо ответила Нелка.
Ах Сулема, Сулема! Будь ты проклята, обещала ведь, я тебя за язык не тянул. Было ощущение странного исчезновения Нелки в пространстве. Вот была и тут же стала истончаться до облака, до блика.
– Пока, Юрай, – услышал он голос как бы уже никого из ничего. – Пока…
И Юрай положил трубку. Не зря же ходил он по кладбищам, примерялся к другому миру, дерн трогал, с петуниями перемигивался… А рубеж этот – между быть и не быть – разве только крестом помечен? Можно уйти и так навсегда, просто положив трубку. Это уже нервная фантазия нарисовала облако, фантазия – штука неподвластная. Вот сейчас ему видится Сулема, как она на тонких шпильках перескакивает через лужу, зависла в прыжке, очень эстетично, между прочим, и машет ему сумочкой-планшетом.
– Ах, Юрай! Прости меня. На дистиллированной воде люди не живут. Ну намекнула я ей, намекнула… Если уж Нелка не способна совершать дурные поступки, так пусть хоть переваривает дурные мысли. Ревность там, обиду… Прости меня, Юрай! Но белые одежды должны пачкаться на живом человеке. От твоей чистюли Нелки разит… Разит лабораторным шкафом… Пусть помучается, пусть. Тебе же будет лучше.
Откуда это пришло к нему? Летящая над лужей женщина и этот ее монолог? Но обида прошла, вот в чем штука. С Нелкой он разберется. Или не разберется. Главное – это возникшее в нем ощущение рубежа между мирами, легкой проходимости этого рубежа, возможности сходить туда и вернуться.
Требовалась еще одна могила, и Юрай поехал к Михайле.
Вот уж к чему не прикасалась рука человека! Могила осела еще больше, и еще больше казалось, что не зарыли милиционера, а положили на матушку-землю и ею же нетщательно присыпали.
«Я сделал, что мог, – сказал Юрай могиле-человеку. – Я остановил, Михайло, Лодину руку, остановил. И не дай бог, приятель, никому жить с этим чувством. А я вот живу… Поставлю тебе камень, посажу куст, чтоб надолго. Чтоб птицы садились. Знаешь, что я узнал? Хрупкая ткань между тем и этим мирами. Я ее чувствую».
Надо было зайти в контору, договориться е мужиками, что привезет памятничек, чтоб помогли, а потом, как и положено, помянули бы еще раз бедного милиционера. Решил идти побыстрее, чтобы успеть до электрички, пошел напрямик, не по дороге, и набрел, можно сказать, сразу.
У Ивана Тряпкина могила была совсем молодая, хотя стояла среди старых. По количеству Тряпкиных вокруг за Ивана можно было только порадоваться: среди своих оказался. У бабушки собственной под боком. Не стой прислоненной к кресту фотографии Ивана, прошел бы Юрай мимо. Но хитро стояла фотография, хитро, в упор она смотрела на Юрая, как бы ждала…
День смерти Ивана случился как раз сорок лишним дней тому назад, и, видимо, по поводу сороковин поставили снятую со стены застекленную воинскую фотку Ивана Тряпкина. Сороковины были отмечены хорошо и остались тут в крошках яичной скорлупы, в дешевых конфетных бумажках. И ногами толклись тут прилично, притоптали и бабушку, и брата, и какого-то младенца Тряпкина, который и не жил, считай, вовсе в тысяча девятьсот тридцатом году, а, появившись в мае, в июне уже и ушел. Иван прижимался к младенцу головой, как ребенок к отцу. Сам Иван родился ровно через тридцать лет после младенца, в июне шестидесятого. Вот и считай, Юрай, сколько пожил мужик.
Дом Тряпкиных Юрай нашел сразу. Женщина со стертым лицом, стоя на крыльце, плела маленькой девчонке косичку, а та крутилась, дергалась на этой твердо схваченной косичке, как заводная. Женщина вспомнила Юрая: это он брал, а потом возвращал охотничьи сапоги.
– Помер, – сказала она твердо, как бы заканчивая этим и разговор, и знакомство. – Помер.
– Болел? – спросил Юрай. – Или случай?
– Как все, – ответила она. – По пьяни.
История, действительно, была простая, чтобы не сказать примитивная. Возвращался Иван вечером от свояка, тот на водокачке живет, пять километров отсюда. Шел поддатый, а как еще от свояка можно идти? Свояк самогон варит лет двадцать, у него это дело никогда не кончается. Без перебоев. Между прочим, самогон у него лучше любой иностранной гадости, свояк очищает его по совести. Тут ничего не скажешь. Плохое дело мужик делает очень хорошо. А Иван нестойкий. Ему много не надо, его со второй ведет в сторону. Ну и сбила его машина на повороте к деревне. Конечно, если б она не скрылась, а отвезла его в больницу, то, может, остался бы калекой. Но тогда и лучше что скрылась. Сейчас с руками-ногами не прожить, а убогому вообще на этой земле делать нечего. Но он, наверное, не долго мучался, потому что его потом и раздели, считай, догола. Уже мертвого.
– Шофера машины, – сказала женщина, – я не сужу. Может, он тоже от своего свояка ехал. Мужики они и есть мужики. Им что жизнь, что смерть. Без разницы. Но ту сволоту, что мертвого обобрала, я бы своими руками удушила. Потому что это – разбойники. И сапоги ваши, то есть наши, ну те, что вы брали на время, сняли, и куртку приличную, как у десантников, и даже штаны, хоть они барахло полное. Он их всегда носил в эти сапоги. Дождь тогда был, а пять километров по грязи – это же не по сухому.
Собственно, Юрай уже не слушал. Сапоги. Ключевое слово. Последняя и единственная, в сущности, улика. Какой же он идиот, что не перекупил эти сапоги у Ивана, не оставил у себя. Ишь, благородный – взял и вернул. И засветил Ивана. Дальше – как говорится – вопрос технологии.
Получалось, что и эта смерть на его, Юраевой, совести. Не лезь, не возникай он – было же ему и прямыми словами, и намеками сказано, – жил бы человек. А он, дурак, все перся куда-то, перся… Этой женщине со стертым лицом и в голову не придет, что, в сущности, он, Юрай, убил ее мужа.
– А вы чего пришли-то? – спросила женщина. – Дело у вас или как?
– На могилу я к другу приходил, увидел и Ивана.
– Ага! Ага! – возмутилась женщина. – Они глаза будут заливать, а мы к ним потом ходи. Война бы, что ли, случилась, чтоб всех сразу побили. А то не жизнь, а сплошные поминки. Сестру вот иду хоронить, грибами отравилась. Все ели, а ей одной смерть. Это что, по-вашему?
– Может, судьба? – тихо сказал Юрай.
– А ей гадалка нагадала, что она за границу поедет, богато жить будет… – Женщина заплакала. – Может, нам, простым, тот свет и есть заграница? Тогда у сестры все сошлось…
* * *
Через Леона Градского Юрай узнал: Лидия Алексеевна Муратова уехала в настоящую заграницу, не для простых и бедных, через два дня после того, как погиб Иван Тряпкин. Нет, не сама она с него сапоги стягивала – для этого у нас всегда есть люди специальные и хорошо обученные. Но доклада об исполнении Лодя-женщина дождалась. Дождалась и расплатилась. И растворилась. Не достать. Не ущучить. Может быть, и не вернется совсем. Теперь посчитай, Юрай, покойников на своей совести и утопись. Потому что жить с этим нормальному человеку нельзя. Нельзя.
Был длинный, как у них с Леоном принято, разговор о грехе самоубийства. И в какой он весовой категории по отношению к убийству. Юрай сказал, что у человека должно быть право решать – жить или не жить. Леон говорил, что права нет. Явление человека на земле – вещь божественная, а потому непознанная. И не человеку определять время ухода. Таким своеволием можно разрушить целый мир, незримо идущий от тебя. Какое же право ты имеешь убивать мир?
– Значит, себя нельзя, а Ивана можно? Как быть с его миром, тем более, что у него этот мир уже с косичками? Кто будет кормить этот мир?
– Он не сам ушел, и его будущий мир, по возможности, будет сохранен.
– Откуда ты знаешь?! – закричал Юрай. – Откуда? Несчастные дети убитых на войне, на улице, в драке… Кто-нибудь видел, что им после этого где-то там было лучше? Пойди и объясни это Ивановой жене, Олиным родителям. Пойди, если ты смелый.
– Все люди это знают. Все, – тихо сказал Леон. – Мы просто заорали в себе это тихое, но самое важное знание. В этом самый главный ужас материализма. А человек в сущности своей – субстанция идеальная. Много знающая, много видящая, все понимающая, но вот беда – тело стало орущим. Нам дано наказание – глупым телом.
Ознакомительная версия.