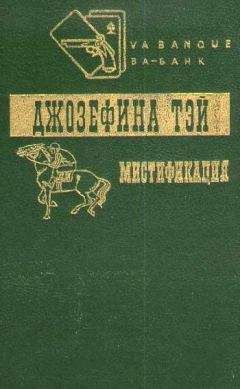— И вы! О, Господи!
— Я знаю, что это неразумно. Даже абсурдно. Но никто из нас не сможет быть веселым, и вечер будет сплошным разочарованием, а ведь вы этого не хотите? А нельзя ли перенести все на завтра?
— Нет, сразу, как только кончится вечерний спектакль, я должен буду торопиться на поезд. И потом, это суббота, и у меня будет matinee[49]. А вечером я играю «Ромео», это совсем не понравится Кэтрин. Она и в «Ричарде III» с трудом меня выдержит. О, Боже, какой все это абсурд.
— Успокойтесь, — сказала Люси. — Все не так трагично. Вы еще приедете в Ларборо, теперь, когда вы знаете, что она здесь, и сможете видеться с ней, когда только захотите.
— Я никогда больше не застану Кэтрин в таком благодушном настроении. Никогда. Знаете, отчасти это благодаря вам. Она не хочет представать перед вами в виде Горгоны. Она даже согласилась поехать посмотреть мою игру. Никогда раньше она не соглашалась. Я никогда не смогу снова уговорить ее, если она не поедет сегодня. Убедите ее, мисс Пим.
Люси обещала попробовать.
— А как вам понравилось сегодня, если отвлечься от нарушенного обещания?
Мистер Эйдриан, по его словам, получил большое удовольствие. Он не знал, что привело его в больший восторг — красота студенток или их ловкость и умение.
— Кроме того, у них чудесные манеры. У меня ни разу не попросили автографа, за весь день.
Люси посмотрела на него, думая, что он иронизирует. Но нет, все было «впрямую». Он действительно не мог представить себе другой причины отсутствия охотников за автографами, как хорошие манеры. Бедный, глупый ребенок, подумала Люси; постоянно живет в мире, о котором ничего не знает. Интересно, все ли актеры такие. Блуждающие воздушные шары, а в центре каждого упакованный в него маленький актер. Как, наверно, это славно, жить обложенным подушками, надежно оберегающими от жестокой реальности. Они вообще даже не родились; они все еще плавают в некоей пренатальной жидкости.
— А кто эта девушка, которая напутала в упражнении на равновесие?
Неужели ей не дадут отвлечься от Иннес хоть на две минуты!
— Ее зовут Мэри Иннес. А что?
— Какое удивительное лицо. Чистый Борджиа.[50]
— Не надо! — резко сказала Люси.
— Я весь день не мог понять, кого она мне напоминает. Наверно, портрет молодого человека кисти Джорджоне, но который из них — не знаю. Надо бы просмотреть их заново. Во всяком случае, это удивительное лицо, такое тонкое и такое сильное, такое доброе и такое злое. Совершенно фантастически красивое. Не представляю себе, что может делать такая драматичная личность в женском колледже физического воспитания в двадцатом веке?
Ладно, ей, Люси, во всяком случае оставалось утешение, что еще кто-то видел Иннес так же, как видела она: необычной, красивой особой красотой, не соответствующей веку, в котором она живет, потенциально трагической фигурой. Люси вспомнила, что Генриетта считала Иннес просто скучной девушкой, которая сверху вниз смотрит на людей, менее одаренных, чем она сама.
Что бы такое предложить Эдварду Эйдриану для того, чтобы отвлечься, подумала Люси. Она увидела, как по дорожке движется хлопающий по ветру шелковый галстук-бабочка и ослепительно белый воротник, и узнала мистера Робба, обучавшего ораторскому искусству; он был единственным преподавателем со стороны, если не считать доктора Найт. Сорок лет тому назад мистер Робб был подающим надежда молодым актером — самым блестящим Ланселотом Гоббо своего поколения — и Люси почувствовала, что поразить мистера Эйдриана его же собственным оружием будет, пожалуй, неплохо. Но поскольку она оставалась все той же Люси, ее сердце смягчилось при мысли о том, как он понапрасну готовился — цветы, пирог, планы показаться в выгодном свете — и она решила быть милосердной. Она заметила О'Доннелл, издали разглядывавшую того, кто некогда был ее героем, и поманила девушку. Пусть Эдвард Эйдриан получит реальную подлинную стойкую поклонницу, которая будет восхищаться им, и пусть он никогда не узнает, что она — его единственная поклонница в колледже.
— Мистер Эйдриан, — сказала Люси, — это Эйлин О'Доннелл, одна из ваших самых восторженных почитательниц.
— О, мистер Эйдриан, — начала О'Доннелл.
На этом Люси оставила их.
Когда чаепитие закончилось (Люси была представлена не менее чем двадцати парам родителей), публика двинулась к выходу из сада, и Люси перехватила мисс Люкс по дороге в дом.
— Боюсь, я не смогу сегодня поехать, — сказала она. — Я чувствую, начинается мигрень.
— Жаль, — равнодушно ответила Люкс. — Я тоже отказалась.
— О, почему?
— Я очень устала, расстроена из-за Роуз, и мне не хочется отправляться гулять в город.
— Вы меня удивляете.
— Удивляю вас? Чем же?
— Никогда не думала, что доживу до того момента, как увижу, как Кэтрин Люкс обманывает сама себя.
— О-о. И в чем же я лгу себе?
— Если вы заглянете в свою душу, то обнаружите, что вовсе не поэтому остаетесь дома.
— Да? А почему же?
— Потому что вам доставляет огромное удовольствие сказать Эдварду Эйдриану, куда ему убираться.
— Отвратительное выражение.
— Зато образное. Вы просто ухватились за возможность проявить свою власть над ним, разве не так?
— Признаюсь, мне было нетрудно нарушить обещание.
— И вы испытали легкое злорадство?
— Я являла собой отвратительный пример самовлюбленной мегеры. Вы это хотите сказать, да?
— Он так мечтает о встрече с вами. Не могу понять, почему.
— Благодарю. Могу сказать, почему. Чтобы он мог расплакаться и рассказать, как он ненавидит театр — то, что для него является смыслом жизни.
— Даже если вам с ним скучно…
— Если! Боже мой!
— …вы можете потерпеть час-другой и не вытаскивать случай с Роуз как козырь, спрятанный в рукаве.
— Вы что, пытаетесь сделать из меня честную женщину, Люси Пим?
— Очень бы хотелось. Мне так жаль его, брошенного…
— Добрая — моя — женщина, — произнесла Люкс, при каждом слове тыча в Люси указательным пальцем, — никогда не жалейте Эдварда Эйдриана. Женщины тратили лучшие годы своей жизни на то, что жалели его, а кончалось тем, что жалели их самих. Изо всех самовлюбленных, самообманывающихся…
— Но он заказал Йоханнисбергер.
Люкс остановилась и улыбнулась Люси.
— Пожалуй, я бы выпила с удовольствием, — сказала она задумчиво. Потом сделала еще несколько шагов.
— Вы и правда оставили Тедди на мели?
— Да.
— Ладно. Ваша взяла. Я просто была скотиной. Поеду. И всякий раз, как он заведет «О, Кэтрин, как я устал от этой искусственной жизни», я буду злобно думать: это Пим ввергла меня в подобную историю.
— Выдержу, — заверила Люси. — Кто-нибудь слышал, как дела у Роуз?
— Мисс Ходж только что говорила по телефону. Она все еще без сознания.
Люси, увидев голову Генриетты в окне кабинета — комната называлась кабинетом, но в действительности была маленькой гостиной слева от парадной входной двери — пошла поздравить подругу с тем, как успешно прошел праздник, и тем отвлечь ее хоть на одну-две минуты от давящих мыслей, а мисс Люкс ушла. Генриетта, похоже, обрадовалась Люси и даже с радостью повторила ей все банальности, которые выслушивала целый день; Люси какое-то время поговорила с Генриеттой, так что когда она направилась к своему месту в зале, чтобы смотреть танцы, галерея была уже почти полна.
Увидев Эдварда Эйдриана на одном из стульев, стоявших в проходе, Люси остановилась и сказала:
— Кэтрин поедет.
— А вы? — спросил он, глядя на нее снизу.
— Увы, нет. У меня ровно в шесть тридцать начнется мигрень.
На что он ответил:
— Мисс Пим, я вас обожаю, — и поцеловал ей руку.
Его сосед удивленно посмотрел, сзади кто-то хмыкнул, но Люси нравилось, когда ей целовали руки. А то какой смысл натирать их каждый вечер розовой водой и глицерином, если время от времени ничего не получать взамен.
Люси вернулась на свое место в конце первого ряда и обнаружила, что вдова с лорнетом не дождалась танцев; место было свободно. Но как раз перед тем, как погас свет — занавеси на окнах были задернуты и в зале горели лампы — сзади появился Рик и спросил:
— Если вы не держите это место для кого-нибудь, можно я сяду?
И как только он уселся, появились танцовщицы.
После четвертого или пятого номера Люси почувствовала некоторое разочарование. Привыкшая к уровню международного балета, она не допускала мысли, что в таком месте, как Лейс, неизбежно любительство. Все гимнастические упражнения, которые она видела, студентки выполняли на самом высоком уровне, профессионально. Однако, отдавая другим знаниям почти все время и силы, как они это делали, они не могли достичь высокого мастерства еще и в танцах. Танцы требовали полной отдачи.
Они все делали хорошо, но не вдохновенно. На лучшем любительском уровне, или чуть-чуть выше. Программа состояла из народных и исторических танцев, так любимых всеми преподавательницами, и исполнялись эти танцы с превосходной точностью, добросовестной, не скучноватой. Быть может, то, что им приходилось все время помнить об изменениях в рисунке танца, лишало их исполнение непринужденности. Но а общем, решила Люси, не хватало и выучки, и темперамента. Реакции зрителей тоже недоставало непосредственности; рвение, с которым они принимали гимнастические упражнения, пропало. Может быть, они выпили слишком много чая, а может, кино познакомило даже тех, кто жил в далекой глуши, с неким стандартом, что и явилось причиной их критического отношения. Как бы то ни было, их аплодисменты были скорее вежливыми, чем бурными.