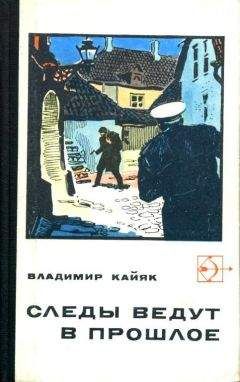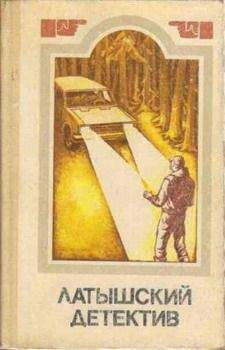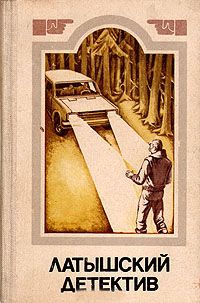— Расскажите, пожалуйста, подробно.
— Подробно. Ну так вот: я как раз поднял капот, осматриваю мотор, работаю ключом, взглянул — Кноппе идет. Что тут особенного, идет так идет, чего мне глазеть на нее, я делом занят. Второй раз голову поднял — она уже уходит.
— От машины? Ни слова не сказав?
— Да.
— Куда?
— Да просто прочь. Я ей вслед не глядел.
— А что она делала у машины?
— Да, ей-богу же, не знаю! Я увидел только, как подходила, а второй раз посмотрел — она уже уходит.
— А она вас видела?
— Кноппе? Она на меня не глядела, но, наверно, все-таки видела, я ж там брякал ключами, не могла она не услышать.
К концу нашего разговора Черксте успокоился и уже не смотрел на меня встревоженно, как будто за столом следователя сидит коварный крючкотвор, который по соображениям, недоступным для простых смертных, так и норовит заманить человека в ловушку, «цепляется», по выражению Черксте. Как неприятно видеть у людей такое недоверие, подозрительность, пугливость. Чувствуешь себя без вины виноватым, оскорбленным и за себя, и за все «юридическое сословие».
Не об этом мне надо было теперь думать!
Визма Кноппе: двадцать два года, стройная фигура, длинные руки и ноги, стриженые каштановые волосы, миловидное личико со вздернутым носиком в веснушках, плутовская улыбка. Глаза большие, синие, наивные. (Внимание! Слишком наивные и невинные.) Болтунья. (Внимание! Нервно говорливая! И руки нервные, пальцы неустанно что-то теребят.)
У Бредиса написано, что Кноппе купалась вместе с женщинами. После купания ушла с Беллой Зар, они направились вдвоем к месту среди скал, где находилась группа любовавшихся закатом; потом все они, восемь человек, вернулись к столу. Судя по показаниям этих восьми, запротоколированным Бредисом, вернулись все вместе. Однако шофер Черксте...
Кноппе трещала, будто у нее во рту двадцать языков:
— Вы, наверно, вызвали меня из-за несчастной поездки за город, а? Вернее, сначала она была совсем не несчастная, наоборот, все так веселились... Ой, не могу! Кто бы подумал, а? Такой жуткий конец! Только я вам, к сожалению, не расскажу ничего нового, а? Я и сама хотела бы помочь, чтобы вы скорее разобрались в этом кошмаре. И директора мне как жаль! И всем его жаль, правда? Такой чудесный человек! Господи, я не могу, как только появляется у нас толковый директор и интересный человек и все идет на лад, как вдруг... Раз! И нет его, а? Если б вы знали, как мы на фабрике переживаем, как переживаем, что его больше нет! Он столько внимания уделял самодеятельности... Я играю на сцене и пою, мы имели успех, а теперь опять начнется жуткая скука... А Белла, это же никто представить не может, как она сейчас переживает, а? Я бы на ее месте просто умерла!.. Почему вы на меня так странно смотрите, товарищ следователь, я, наверно, слишком много болтаю? Ой, не могу — это все говорят, а? Вы, может быть, хотите сказать... Вы думаете...
Ну нет, ни за что не скажу тебе то, о чем сейчас подумал: сколько может следователь слушать бессвязную болтовню, не прерывая ее каким-нибудь неприятным замечанием? Вслух я сказал:
— Говорите, пожалуйста! Очень приятно слушать, сразу видно, что вы актриса и певица, у вас мелодичный голос.
— Спасибо, вы очень любезны, это, конечно, просто комплимент, а? Люди, конечно, говорили, что мне нужно поставить голос — у меня лирическое сопрано. Так ведь это же вам неинтересно, вам интересно насчет директора, а? На чем я остановилась? Мужчины все иначе воспринимают, вам его, наверно, не так уж жаль, а мы... Я на кладбище так ревела, ой! Как дура, честное слово, прямо стыдно! Будто у меня с ним бог знает какие отношения были! Не могу, наверно, люди так и подумали. Вы мне верите? Не могу! Вы так смотрите...
— Почему бы мне не верить, что вы чувствительная и нежная девушка?
— Нет, честное слово, вы комплиментщик, вы же не можете этого знать, но так оно и есть, я такая чувствительная, другие относятся ко всему куда спокойней, чем я! Во всех отношениях...
Ну, теперь-то, пожалуй, настало время ввести ее словоизвержения в то русло, какое мне нужно. Кстати, в работе мне очень мешает слабость, которую надо бы срочно ликвидировать: я не могу долго слушать быструю, бессвязную речь — у меня звенит в ушах, становлюсь рассеянным и, что хуже всего, раздражаюсь.
Я перебил ее:
— Простите, а о чем вы разговаривали с Беллой Зар, уйдя оттуда после купания?
— С Беллой! Мы с ней разговаривали... Нет, вообще-то, мы не разговаривали, вернее, я-то говорила, а Белла нет, она только сказала, что устала и у нее болит голова, а я ответила: это не удивительно, такая жара, поездка, все эти хлопоты, суетня, а? И потом Белла выпила довольно много. Я еще за столом ей говорила, чтобы она наливала себе и мне только вино, иначе...
— Продолжайте, пожалуйста! Что вы еще сказали?
— Потом, когда мы шли? Ничего особенного, так, разные пустяки, что-то насчет того, что погода восхитительная, что пикник удался чудесно. И еще про ее мужа, что я его просто обожаю, и не я одна... А Белла молчала, слушала. Больше я ничего не знаю, всего и не вспомнить, а? Может быть, я что-то пропустила, какие-нибудь пустяки... Нет, почему вы на меня так смотрите мрачно, совсем больше не улыбаетесь, наверно, я ляпнула какую-нибудь глупость, а? Или вы мне не верите?
— Верю. Верю, что вы честная девушка, — сказал я. Пусть понимает, как хочет.
Машинистка покраснела и воскликнула:
— Вот вы опять говорите комплименты, а? Ну не такая уж я честная... Вы юрист, мне просто нельзя говорить вам неправду, а?
— Нельзя, вы правы. А как это понять: «Не такая уж я честная»?
— Ах... Не буду же я рассказывать вам разные пустяки, а? Я все-таки немножко-то соображаю.
— А что вам сказал шофер Черксте, когда в тот день подходили к грузовику?
Не скажу точно, действительно ли вздрогнула Кноппе или мне только показалось, она вообще сидела как на иголках, вертелась, смотрела то в окно, то на меня, то в потолок, сплетала и расплетала пальцы, разглядывала свои свеженаманикюренные ногти, то наклонялась ко мне, то откидывалась на спинку стула.
— Черксте? Ничего он мне не сказал.
— А вы ему?
— Я тоже ничего. А что бы мне ему говорить?
— Визма Кноппе, я вас предупреждаю, что...
— Честное слово, товарищ следователь, честное слово, я с Черксте вовсе не разговаривала! Сперва я его совсем и не видела, он там копался за машиной... в этом самом...
— В моторе?
— Ну да, а я только подошла к машине и сразу же ушла.
— А что вы делали у машины?
— Я?
— Да, да, именно вы! Одна! С Черксте вы не разговаривали, других людей там не было. Не было?
— Нет, не было.
— Так зачем же вы туда пришли, что вы там делали?
— Я? Я просто так подошла.
— Просто так? Что это значит — просто так?
— Да просто захотела попить! В машине был ящик с фруктовыми водами.
— И что же вы пили?
— Я? Не помню. Пиво?.. Кажется, пиво.
— Кажется? Постарайтесь припомнить точно, что вы пили! Пива в машине вовсе не было, ящик с пивом стоял у стола, все жаловались, что оно нагрелось на солнце... Вы меня не обманывайте! Вы же только сейчас сказали, что юристов нельзя обманывать! Что вы делали у машины?
— Я... я взяла бутылку коньяка, там был ящик...
— И вы ее выпили? Помилуйте! Целую бутылку?
— Что вы, я же... Ой, не могу! Я же не выпила ни капельки, поверьте мне, я просто...
— Вы просто?..
— Отдала.
— Кому?
Девушка давно перестала улыбаться. Она расплакалась — по-детски, громко всхлипывая, причем слезы хлынули разом, как из прорванной плотины.
А я ожесточился, как мог, и продолжал наседать, чтобы Кноппе не думала слишком долго: ее рыданиям не предвиделось конца.
— Говорите! И не притворяйтесь опять, что не помните!
— Я не выпила-а! Верьте мне! Отдала-а... Честное слово! Расиню и...
— Хельмуту Расиню?! Сплавщику?!
— Да-а... И Рейнису Сала... Брату Беллы...
Ее душили слезы, ей с трудом удавалось выдавливать из себя отдельные слова. В ту минуту я почти радовался, что она плачет так безутешно, это давало мне возможность справиться с собственным волнением. Рейнис Сала?! Я понятия не имел, что у Беллы Зар есть брат, даже не интересовался ее родственниками.
— Значит, вы отдали бутылку коньяка этим двоим? С какой же стати? Не плачьте, хватит уж, а если никак не остановиться — возьмите хоть платок!
Кноппе послушно достала из сумочки крохотный прозрачный платочек. Никогда я не понимал, для чего они предназначены, ими даже нос утереть невозможно. Кноппе, однако же, принялась энергично сморкаться, потом комкать мокрый платок. Мне стало противно, я разозлился — наверно, отвращение является одним из сильнейших и непреодолимейших ощущений человека — и прикрикнул на нее чуточку строже, чем следовало: