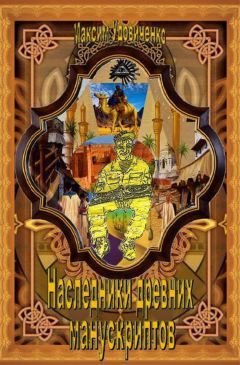Ознакомительная версия.
— А ты что же? — оглядываю я Кривошапку. — Опять не позвали?
Он еще улыбается, но, кажется, я попал в его болевое место. В глазах Кривошапки я вижу обиду и даже горд тем, что впервые поверг его в отчаяние. Усмехнувшись, я поворачиваюсь, но уйти он мне не дает.
— Мы больше не занимаемся делом Карасина, — говорит он, и мне словно дают подзатыльник.
— Забрали? — оборачиваюсь я. — В Главное следственное?
— Да в том-то и дело, что нет. Создана новая следственная бригада, руководитель — лично Багмет. Убийства Карасина, Брауна и певицы Плющ объединены в одно. И, кстати, у нас прибавилось помощников. В состав бригады включен личный состав четырех отделов, включая наш. Обязанности и полномочия конкретно пока не распределили, но меня вот отправили на освидетельствования Джабировой родственниками. Поедешь со мной?
— Кто такая Джабирова?
— Ариза Джабирова. Ну, Плющ — это как бы творческий псевдоним, — усмехается Кривошапка. Я и не понял, как он подошел и теперь нас разделяет не более метра. — Так что, едем? Я только сумку захвачу, — говорит он, отзываясь на мое неопределенное движение плечами.
Я снова пожимаю плечами, он этого уже не видит, но настроение у меня портится, и, кажется, это надолго. Он выигрывает у меня эту дуэль, да я уже толком и не понимаю, дуэль ли это, и играет ли он против меня. Быстро, пока не вернулся Кривошапка, я достаю оповещатель, чувствуя, как внутри меня шевелится маленький комок едва теплой надежды.
— Мария, — говорю я в трубку и слышу шум и сразу понимаю, что это шум офиса.
Черт, я даже не знаю где она работает и кто она по профессии.
— Что? — кричит она. — Сереженька, я сейчас.
Она, возможно, бросает свою работу, может, на глазах директора выбегает на улицу, не боясь потерять насиженное рабочее место. Бежит туда, где ей будет слышен голос, который для нее важнее всех звуков этого мира. Кажется, это единственная женщина в моей жизни, готовая ради меня променять рай на шалаш.
— Сережа, — слышу я ее.
— Как ты? — спрашиваю я.
— Я? — она даже теряется. — А что? А ты как? Ты что, заболел? — слышу я беспокойство в голосе.
— Почему?
— Голос слабый.
— Много работы. Сейчас вот едем, — киваю я в сторону отлучившегося Кривошапки. — Слушай, может, встретимся.
В трубке пару мгновений ничего не происходит. Я даже успеваю забеспокоиться.
— Когда? — наконец, говорит Мария.
— Сегодня. Можешь?
— Господи, да конечно! — она срывается и я усмехаюсь, чувствуя невероятно приятную вещь оттого, что в меня можно влюбиться до такого сумасшествия. — А где?
— Можем у меня.
— Нет! — кричит она. — У меня. Только ты приезжай, пожалуйста.
— Мария, вот на этот раз — кровь из носа.
— Не надо, дорогой, не хочу, чтобы у тебя из носа шла кровь.
— Я приеду. Ты во сколько освобождаешься?
— Я могу прямо сейчас.
— Слушай, не надо таких жертв.
— Ну, я… У меня в шесть заканчивается сегодня смена.
— Ну и отлично. К девяти я у тебя. Идет? Адрес не изменился?
Она заливается смехом.
— А у меня будет для тебя сюприз.
— Дааа…
— Да. Разговор. Очень важный.
— Даааа, — словно клоуничаю я и вижу вернувшегося Кривошапку. — И какой? — уже отрывисто спрашиваю я, кивая Кривошапке и присоединяясь к нему.
— Очень важный.
— Да? — говорю я.
— Что обычно делают влюбленные?
— Ну, мне неудобно, — наигранно хихикаю я.
— Да, — гордо говорит она, все еще видимо считая тот наш единственный раз по своему значению равен тысяче. — Но это лишь часть, правда?
— Конечно, — соглашаюсь я.
— Это часть их совместной жизни. Жизни вдвоем, жизни навсегда. Так что разговор у нас будет очень важный.
Меня чуть не прихлопывают автоматические двери, через которые я мгновением ранее пропускаю впереди себя Кривошапку.
Она сумасшедшая, осеняет меня. И сегодня она собирается предложить мне руку и сердце. Мне хочется, разбив «Йоту» об асфальт, спросить кого-то там, наверху, испепеляющего этим летом Москву, что он от меня хочет, насылая на меня все это дерьмо. Что, черт возьми, ему от меня надо?
Потом одумываюсь и в голову приходят более привычные мысли. Например, о том, что неплохо бы по дороге пристрелить Кривошапку. Покончить с ним и застрелиться самому. Мостовой, как ни крути, слетит со своего места, зато ребята точно будут приходить ко мне на могилу и, может даже, водку в стакане оставлять на плите.
— Хорошо, — говорю я в трубку. — До встречи, — и, чтобы она совсем там с ума сошла, добавляю, — дорогая.
Я не знаю точно, где я буду в девять. Может, еще на освидетельствовании. Может, к тому времени мы уже закончим и с Кривошапкой заедем куда-нибудь выпить, прочистить мозги. Или я буду в метро, ехать домой. Да мало ли где застанет меня вечер?
Не буду я лишь у Марии. Я даже не позвоню ей.
Ее номер я стер еще до того, как мы оказались в служебном автобусе.
Мой ласковый и нежный бес
Анджей Вайда поставил Достоевского в «Современнике»
Можно позавидовать великому поляку белой завистью. Я, например, мечтаю издать роман в Random House. И пусть я пока не написал его, даже если это случится, и роман будет написан на безупречном английском, я на 99,99999 % уверен, что в Random House он никогда не будет издан. Даже после моей смерти.
А вот Анджею Вайде повезло. Он свою мечту осуществил, и судя по тому, с каким энтузиазмом он отзывается о предоставленной ему возможности, и по тому, что с момента возникновения замысла миновало, пожалуй, несколько эпох — от еще не дряхлого Брежнева до зрелого Путина (а впервые возможность постановки обсуждалась аж в в начале семидесятых), — «Бесы» на русской сцене были для него если не идефиксом, то по крайней мере многолетним творческим зудом.
Сегодня имя Вайды на афише московского театра воспринимается уже далеко не как божий дар, скорее — как необязательный оммаж вышедшему из моды властителю дум. А тут еще эта история со скорострельностью постановки.
То ли потакая нетерпению Вайды, то ли понимая, что сверхзвездная афиша с фамилией поляка и так сорвет банк, репетировала труппа всего ничего. Поговоривают, всего полтора месяца.
Разговоров вокруг спектакля чересчур, кстати, много, сам же спектакль ожидаемо отошел на задний план. Ничего странного в этом нет. В конце концов не каждый год Анджей Вайда ставит спектакли на русском языке и на русской сцене, поэтому критики, эти тощие, вечно голодные хищники теперь обильно исходят слюной. Что ж, их любимое занятие в очередной раз лишило критиков возможности успешно справиться со их непосредственной задачей. Понять зрелище, а не внимать слухам.
Постановка Вайды была обречена. Как минимум, на сравнение с легендарным ленинградским спектаклем Льва Додина, при том, что даже третьекурснику Щукинского училище понятно, что сопоставлять спектакли, пусть и по одной пьесе, хронометражем в 8 и 3 часа — не совсем комильфо. Впрочем, и это стало поводом для упреков. Как можно уложить великий и огромный роман Достоевского в три часа? Халтура? Мистика? Или впрямь, как выразились бы большинство моих коллег, достоевщина?
А между тем, непонятно, почему тексты Достоевского принятно считать тяжеловесными для постановки? Как, впрочем, и его тексты? Причем высказывают это суждение, как правило, те же люди, которые, вслед за Набоковым, называют ФМ журналистом, и утверждают, что писал он бульварные романы, не без резона напоминая, что сюжет «Преступления и наказания» списан с криминальной хроники.
Позволю себе немного побыть литературным критиком. Лично мне романы Достоевского никогда не казались тяжелыми — я не имею в виду трагичную мрачность сюжета. «Бульварность» же Достоевского я склонен приписывать величию русской литературы XIX века, в огранке которой даже криминальный сюжет из газетного «подвала» становился непревзойденным бриллиантом.
Достоевский чрезвычайно мелодраматичен, иногда даже слезлив до невозможности. Но при этом — быстр в плане техники чтения, что, впрочем, неудивительно. Ведь философия Достоевского рождается из обыденных ситуаций и из до пошлости банальных отношений.
Вайда прочел роман Достоевского именно так — быстро и взахлеб, и мне, честно говоря, не интересны возможные замечания на счет того, что спектакль, мол, поставлен по сценической версии Альбера Камю. Имеющие глаза, да увидел, что имя Камю на афише — скорее дань предыдущим версиям спектакля Вайды. Имеющий уши — услышал, как же на самом деле важен для режиссера оригинальный текст.
Не склонен я к иронии и по поводу опубликованного в програмке обращения режиссера — этого необязательного и даже неуместно на первый взгляд вступительного слова к спектаклю. Выглядит это как обреченная на провал попытка превентивноного оправдания не менее обреченного на провал спектакля. Вы, мол, уважаемые россияне, конечно, все равно не поймете глубины замысла, вот и приходится разжевывать и класть в рты ваших недалеких голов. И впаривает пан Вайда про красоту великого русского слова, про непревзойденность авторского текста и так далее и тому подобную, извините за нетеатральный термин, лабуду.
Ознакомительная версия.