— Это вопрос ко мне? — Она произнесла это быстро и задорно-вызывающе, но тут же достала свое вязание, словно готовясь к долгому разговору.
Я закурил.
— Ты меня с самого начала интересовала как женщина, и мне вдруг захотелось понять, как ты меня воспринимала — как мужчину или просто как старого, бесполого маразматика, который годится только на роль дядюшки…
— Чего ты хочешь? «Ты меня с самого начала интересовала как женщина»! Если я тебя интересовала в прошлом, то тему можно закрыть. Если я тебя интересую в настоящем, то имей мужество признаться в этом. Тебе, я вижу, легче брать на себя ответственность за прошлое, чем за настоящее… Так, лицевая, лицевая… изнаночная, изнаночная…
— Мне совсем не трудно признаться, что ты меня интересуешь, Юдит.
— Понимаешь, Герд… Конечно, я воспринимаю тебя как мужчину, и ты мне нравишься как мужчина. Но все это никогда не заходило так далеко, чтобы у меня появилось желание сделать первый шаг. Тем более в последние недели. А что за вымученные шаги делаешь ты?.. Или это вообще никакие не шаги? «Мне совсем не трудно признаться, что ты меня интересуешь»! При этом тебе невероятно трудно выдавить из себя даже такое туманное, осторожное предложение. Ладно, поехали. — Она обмотала начатый рукав пуловера вокруг спиц, а сверху намотала немного пряжи.
Я не нашелся, что ей ответить. Я чувствовал себя униженным. До Ольтена мы не произнесли ни слова. Юдит поймала по приемнику концерт Дворжака для виолончели с оркестром и опять занялась вязанием.
Что же меня, собственно, унизило? Юдит всего-навсего врезала правду-матку и высказала то, что я и сам чувствовал в последние месяцы: неясность моего отношения к Юдит. Но она сделала это так безжалостно и с таким оскорбительным равнодушием, что я почувствовал себя мальчишкой, которого вывели за ухо на середину класса, отчитали и поставили в угол. Я сказал ей это, когда мы проезжали Цофинген.
Она опустила вязанье на колени и долго молчала, глядя на дорогу.
— Когда я была секретаршей, я часто сталкивалась с этим — с мужчинами, которым от меня что-то было нужно и которые боялись в этом признаться. Которые не прочь были закрутить со мной роман, но не хотели связанных с этим неудобств и хлопот. И даже решившись, они старались все обставить так, чтобы можно было в любой момент пойти на попятную, избежав каких бы то ни было обязательств. И ты, как мне показалось, вел себя приблизительно так же. Ты делаешь первый шаг, который, может, вообще — никакой не шаг, делаешь жест, который тебе ничего не стоит и ничем не грозит. Ты говоришь об «унижении»… Я совсем не хотела тебя унижать. Да и вообще, черт побери!.. Почему твоей чувствительности хватает только на твои собственные обиды? — Она отвернулась, и мне показалось, что она плачет. Но мне не видно было ее лица.
Люцерн мы проезжали уже в темноте. В Вассене я решил, что дальше ехать сегодня уже не стоит. Автострада опустела, но пошел снег. По своим прежним поездкам на Адриатику я знал здесь «Отель дез Альп». У стойки портье все еще висела клетка с индийской вороной. Увидев нас, она произнесла:
— Держи вора! Держи вора!
За ужином мы ели рагу из телятины по-цюрихски с жареным картофелем. Еще в дороге мы начали спор о том, может ли успех внушить художнику презрение к публике. Рёзхен как-то рассказывала мне о концерте Сержа Генсбура[134] в Париже, на котором публика тем восторженней аплодировала ему, чем презрительней он вел себя по отношению к ней. С тех пор этот вопрос не давал мне покоя и постепенно трансформировался в более широкую проблему: можно ли, состарившись, не проникнуться презрением к людям? Юдит долго пыталась опровергнуть тезис о связи между творческим успехом и презрением к публике. После третьего бокала фандана[135] она сдалась:
— Да, ты прав, Бетховен в конце концов оглох. Глухота — это высшая форма презрения к окружающему миру.
В своей одноместной монашеской келье я спал как убитый. На следующее утро мы рано тронулись в путь. Когда мы выехали из Готардского туннеля, зима осталась позади.
Мы прибыли около полудня, остановились в отеле у озера и пообедали на застекленной, прогретой солнцем веранде с видом на разноцветные лодки и яхты. Я немного волновался при мысли о предстоящем чаепитии с Тибергом. Из Локарно в Монти ведет канатная дорога. На середине пути, где вагончик, едущий вверх, встречается с вагончиком, едущим вниз, находится станция со знаменитым местом паломничества: церковью Мадонна дель Сассо. До церкви, не очень красивой, но очень живописно расположенной, мы шли по Крестному пути,[136] усыпанному крупной галькой. На оставшуюся часть подъема у нас не хватило духу, и мы сели в вагончик.
Пройдя по извилистой улице до дома Тиберга у маленькой площади с почтовым отделением, мы очутились перед трехметровой оградой, спускающейся к улице и увенчанной кованой чугунной решеткой. Судя по павильону на углу, по деревьям и кустам за решеткой, дом и сад располагались на возвышенном месте. Мы позвонили, открыли массивную дверь, поднялись по ступеням в палисадник и увидели перед собой скромный трехэтажный дом, выкрашенный в красный цвет. У входа стояли садовый стол и стулья, похожие на те, что можно видеть в летних пивных ресторанах. Стол был завален книгами и рукописями. Тиберг снял с себя верблюжье одеяло, в которое кутался, и пошел нам навстречу энергичной походкой, немного подавшись вперед, высокий, с густыми белыми волосами, короткой ухоженной седой бородкой и кустистыми бровями. На носу у него были узенькие очки для чтения, поверх которых он с любопытством смотрел на нас своими карими глазами.
— Дорогая фрау Бухендорфф, как хорошо, что вы вспомнили про меня! А это ваш дядюшка? Добро пожаловать на виллу Семпреверде! Мы с вами уже встречались, сказала мне ваша племянница. Нет, подождите! — остановил он меня, когда я уже собрался ответить. — Я сам вспомню. Я как раз работаю над своими воспоминаниями, — он указал на стол, — и с удовольствием тренирую память.
Он провел нас через дом в сад.
— Пройдемся немного, пока дворецкий готовит чай?
Дорожка вела нас вверх по склону холма. Тиберг расспрашивал Юдит о ее делах, о ее планах, о ее работе на РХЗ. У него была приятная, спокойная манера задавать вопросы и выражать свой интерес к словам собеседника коротенькими замечаниями. И все-таки меня поразило то, как откровенно Юдит рассказала ему о своем уходе с РХЗ, разумеется ни словом не упомянув обо мне и моей роли в этой истории. Поразила меня и реакция Тиберга. Он никак не выразил ни недоверия к рассказу Юдит, ни возмущения по отношению к кому бы то ни было из действующих лиц, от Мишке до Кортена, ни сочувствия или сожаления. Он просто спокойно принял все к сведению.
К чаю дворецкий подал печенье. Мы сидели в большой комнате с роялем, которую Тиберг называл музыкальным салоном. Беседа приняла экономический уклон. Юдит легко манипулировала такими понятиями и терминами, как капитал и труд, затраты и прибыль, баланс внешней торговли и валовой социальный продукт. Мы с Тибергом сошлись во мнении, что идет балканизация Федеративной Республики Германия. Он сразу понял, что я имею в виду не турок в Кройцберге. Его тоже беспокоило, что количество поездов все сокращается, а точность их прибытия и отправления давно оставляет желать лучшего, что почта работает все меньше и все менее надежно, а полиция становится все грубее и жестче.
— Да… — задумчиво произнес он. — Инструкций уже так много, что сами чиновники не принимают их всерьез и применяют по настроению и желанию — то небрежно, а то и вообще никак. Когда это настроение и желание начнет регулировать взятка — уже вопрос времени. Я часто задумываюсь о том, какой тип промышленного общества возникнет из этой ситуации. Постдемократическая феодальная бюрократия?
Я люблю такие беседы. К сожалению, Филиппа интересуют только женщины, хотя он время от времени и читает, кругозор Эберхарда ограничивается тридцатью шестью клетками шахматной доски, а Вилли мыслил крупными эволюционными категориями и носился с идеей, что мир — или то, что оставит от него человек, — в следующем зоне достанется птицам.
Тиберг долго всматривался в мое лицо.
— Ну конечно. Хотя вы и приходитесь фрау Бухендорфф дядюшкой, это не значит, что вы обязательно должны носить ту же фамилию. Вы — доктор Зельб, прокурор в отставке.
— Да. Только не в отставке, а уволился в сорок пятом.
— Уволен, как я полагаю?
У меня не было желания объяснять ему обстоятельства моего увольнения. Юдит заметила это и включилась в наш разговор:
— Быть уволенным еще ничего не значит. Большинство из них опять вернулись. А дядя Герд — нет. Не потому, что у него не было возможности, а потому, что у него не было желания.
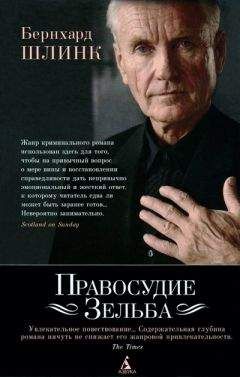
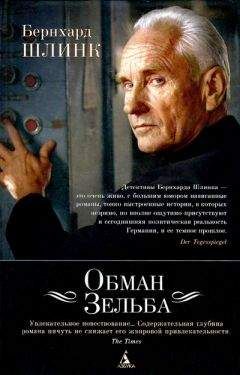
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)

