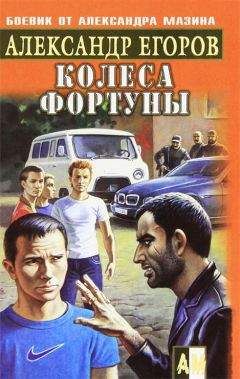— Ну, помню вроде, — отвечал я недоуменно.
— Я еще чуть под поезд не попал.
— Было такое. И что?
— У меня тут видение было. Пока я в отрубе валялся.
— Какое еще видение?
— Как будто я сам лежу на путях, поперек рельсов, и сам же на это смотрю. Откуда-то сверху. И типа сам на себя наезжаю. Можешь себе такое представить?
— Сам на себя наехал? Да легко. Не все же другим на нас наезжать.
— Да нет, ты слушай. И вот я уже сам к себе приближаюсь, и такая вдруг вспышка происходит, как будто искры от электросварки, но совсем недолго. А потом я снова становлюсь как бы сам собой. Одним собой. Понимаешь?
— Нет.
Марина до этого времени с интересом прислушивалась к нашему разговору. И наконец сказала:
— А я, кажется, понимаю.
Макс поглядел на нее с благодарностью. Сердце у меня защемило, но лишь на один миг.
— Может быть, такое бывает при клинической смерти, — сказала Маринка. — Когда душа уже покидает тело, а потом все-таки возвращается. Я читала про это.
— В книжках и не такое напишут, — досадливо проговорил я. — Разводка это все.
— Никакая не разводка, — возразил Макс. — Когда американские проповедники по телевизору песни поют — тут я все понимаю, это разводка для нищих. А здесь что-то совсем другое. Я даже хотел бы снова на эту вспышку посмотреть. Мне кажется, что в этот момент можно узнать что-то очень важное.
— Если узнаешь это важное — потом и жить не захочется, — сказал я.
— Так мы, может, и живем-то для того, чтобы это узнать.
«Да, — подумал я. — Как все серьезно. За нашим Максом глаз да глаз нужен».
Я расскажу вам кое-что, чтобы вам стало понятно.
Как вы уже знаете, мы были друзьями с детства. Лет до двенадцати мы проводили вместе каждый день. Лазили по подвалам и крышам, исследовали все закоулки родного города, курили на помойках.
Потом, когда гормоны начали ломать нам жизнь изнутри, многое изменилось. Какая-то часть моего сознания отстраненно наблюдала за этим. Взросление я представлял себе так: кто-то всадил тебе иглу прямо в вену, и теперь из огромной медицинской капельницы в твою кровь раз за разом вливается новая порция змеиного яда. И ты растешь просто для того, чтобы не умереть от смертельной дозы.
Мы уже не были детьми. Мы разучились радоваться солнцу просто потому, что оно взошло, а лету — потому что оно пришло; мы бросили мечтать обо всем сразу — или, вернее сказать, наши фантазии обрели с некоторых пор форму, особенно по ночам, да и днем тоже.
Реакцией была беспричинная тоска (я определял это так), которая приходила в минуты одиночества и наполняла душу сомнением и тревогой — хотя нет, ни в какую душу я не верил, да и тревога казалась мне слишком определенным чувством. Она, по крайней мере, допускала возможность выхода. А эта моя тоска не оставляла никакой надежды на избавление; просто что-то ушло навсегда, — думал я, — и теперь из черной дыры веет холодом.
Что ушло? Вероятно, сознание совершенства.
Мне было неуютно в моем новом теле, как моему разгоряченному мозгу — в угловатой черепной коробке. Хорошо, — думал я. Если я появился на свет только для того, чтобы жрать и трахаться, тогда откуда эта тоска и эти сомнения? Если же удел человека — вечный выбор между альтернативами, тогда почему они все, эти альтернативы, так похожи одна на другую? А может, если перестать выбирать, мир снова станет совершенным?
Когда я поделился этими мыслями с Максом (нам было лет по четырнадцать), нельзя сказать, чтобы мои слова стали для него откровением. Его ответ поразил меня: если не получается сделать мир совершенным, — сказал он, — его нужно уничтожить на хрен. Прямо сейчас. Возможно, следующий акт творения будет более удачным.
Кто же, интересно, станет все это сотворять по новой? — спросил я его. Кто, кто. Ты сам, — отвечал Макс с пугающей уверенностью. — Не думаешь ли ты, что кто-то займется хоть чем-то ради тебя?
С этим я согласился. Зато дивный новый мир, — продолжал Макс (так уж я запомнил его мысли), — ты сможешь построить по своему разумению. Вот тебя бы, Пит, я туда взял. И еще кое-кого. А ты бы взял меня?
Я сказал: конечно, разумеется. Значит, в этом наши миры совпадут, и это будет правильно, — сказал Макс.
Но ведь ты сможешь уничтожить этот мир только вместе с самим собой, — предположил я. Как знать, как знать, — отвечал Макс. — Многие всё же пробуют.
Это была правда. В нашем городке слухи разносились быстро. Десятки людей вокруг нас сводили счеты с жизнью по разным причинам: в основном, конечно, находили повешенными пьющих стариков, выброшенных из жизни той же неумолимой силой, что вбросила туда нас; две девочки на нашей памяти бросились с крыши девятиэтажки от любви к герою русского телесериала (тайному гомику с физиономией вечного страдальца). Для надежности они связались веревкой за запястья.
Мне было их жаль. Последним, что видели они в жизни, оказалось уродливое нагромождение телевизионных антенн на крыше — а затем был свободный полет в эфире, бессмысленный и окончательный. Я знал, что они писали письма в редакцию телеканала, но никто им не ответил. Может, теперь им наконец удалось сотворить новый мир в виде широкоформатного телевизора, одного на троих? Или для этого нужно было сперва сбросить с крыши того самого телегероя? Я бы им в этом охотно помог.
Классе в девятом нас поразила история одного нашего ровесника из другой школы. Этот парень явно не сомневался в окружающей жизни. Он просто хотел проверить ее на прочность. Для этого он спустился в подвал, с немалым трудом вывернул там газовые вентили, а сам прилег на принесенный с собою матрас, зажег свечку и стал ждать.
Он рассчитывал, что рано или поздно его свечка мгновенно воспламенит скопившийся внизу газ, и тогда вся девятиэтажка станет этаким зиккуратом, гигантским жертвенником на его могиле. Подобное он мог видеть по телевизору: в те времена телеканалы как раз отрабатывали на людях сильнодействующие предвыборные средства, и политтехнологи нуждались в зрителях.
Но в тот раз идиотская затея провалилась, как и любое малобюджетное мероприятие. Ритуальная свечка сгорела, а этот урод просто задохнулся на своем матрасе. Вовремя пришедший слесарь-газовик не нашел подобающих слов, чтобы произнести над телом — он выматерился в адрес покойного и поскорее закрыл вентили.
Опасные огоньки, блестевшие у Макса в глазах всякий раз при упоминании этого случая, мне очень не нравились.
Скоро напряженные тренировки принесли нам первые награды в парных видах спорта (как я уже говорил, несколько раз все произошло прямо в физкультурном зале), и тогда мы отвлеклись от своих нелепых экзистенциальных теорий. Десяток помоек, сожженных Максом в те годы, не в счет.
Вот только тревога никуда не ушла. Перед нашим отъездом Макс думал всё о том же. Мы бежим по кругу, как цирковые лошади, — говорил он, — а они все смотрят и ждут, когда же мы споткнемся. И бьются об заклад: кто упадет первым?
Признаться, мне не хотелось об этом думать.
Я лениво гладил рыжую дворнягу. Найда только что слопала целую ливерную колбасину и теперь лежала рядом со мной довольная-предовольная.
— Маринка, — вспомнил вдруг я. — А вашей Найде сколько лет?
— Года три. Еще молодая собака.
«Ага. Тогда ничего она про тебя не расскажет, — решил я. — Хотя бы из солидарности».
— Пойдемте домой, — предложила Маринка. — А то скоро совсем стемнеет.
— Все вместе, что ли? — удивился я. — Тебе же Лариса Васильевна запретила фокусы.
— Им атропин бы ввести. Или хотя бы кофе крепкого попить, — серьезно объяснила Маринка (не зря же ее мать была доктором). — Пойдем, пойдем. Мама на работе всё равно, придет только утром.
Конечно, мы не заставили себя долго уговаривать.
Вчетвером мы поднялись по скрипучим ступеням в квартиру номер два. У дверей Марина прижала палец к губам и, медленно повернув ключ в замочной скважине, приоткрыла дверь.
Внутри уже было совсем темно. Мы на цыпочках, чтобы не разбудить бабку, прошли в комнату, заставленную шкафами. Костик немедленно наткнулся на острый угол и зашипел от боли. Марина включила лампу.
— Мальчишки, вы мойтесь и располагайтесь. Я пойду в аптечке чего-нибудь поищу. Петька, поставь чайник, пожалуйста.
Я удивлялся сам себе. Теперь каждое ее слово было законом.
Мы включили телевизор: в новостях опять показывали нового премьера, потом начался фильм про «Титаник», но не тот, с Леонардо Ди Каприо, а старый. До секса там дело вообще не дошло, или просто мы не досмотрели, потому что Макс с Костиком начали зевать, как заведенные; для них был разложен диван, но Костик так и уснул в кресле. Мы с Маринкой сидели на кухне и тихонько разговаривали.
— Я все-таки думаю: зачем ему понадобились все эти сложности? — спрашивала меня Маринка. — Почему было не рассказать обо всём сразу?