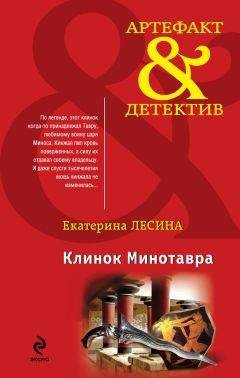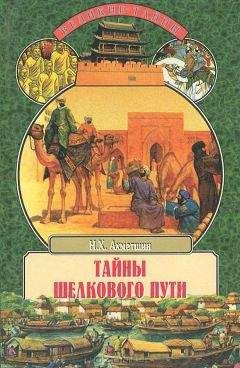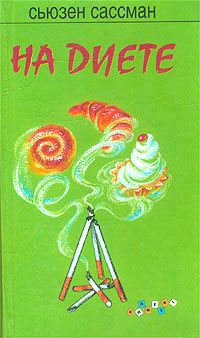Ознакомительная версия.
– Могла бы, – она прижала клинок к груди. – Но я устала врать. И притворяться устала тоже… да, той ночью, точнее, вечером я ушла из дому. На свидание. К мужчине. Презираете?
– Отнюдь нет, Елизавета Алексеевна, – Натан Степаныч сказал чистую правду.
Он даже знал, кем был тот мужчина, который сумел очаровать княжну.
– И давно вы с отцом Сергием встречаетесь…
– Что? Да… – она улыбнулась искренне, светло. – И спрашивать не стану, откуда вам о нас известно…
– Так ведь больше не к кому. Сами подумайте, Елизавета Алексеевна, ну не в деревню же вам бегать…
– Они с Алексеем враждовали, – княжна все же присела у окна и, положив клинок в ножнах на юбки, гладила его с нежностью, точно живого, – это была глупая нелепая вражда. Взрослые мужчины, а… Сергей не желал слышать о примирении, про Алексея и говорить было нечего…
– А вы?
– Я желала быть любимой. Счастливой. Пусть никогда не осмелюсь выставить это счастье на люди. Отец жил с матушкой Михаила открыто, никого не стыдясь, но с мужчин иной спрос… да и если станет вдруг известно о нашем романе, то Сергею придется нелегко. Осудят. Отвернутся. Напишут жалобу, а там…
Она махнула рукой.
– Меньше всего я хотела бы причинить вред человеку, которого… пожалуй, люблю, – Елизавета Алексеевна произнесла это с сомнением. И значит, не любовь, но лишь попытка женщины найти, удержать счастье. Хоть какое-то. Позднее. Переспелое. Чужое и, быть может, вовсе ей не нужное, но как узнать, не попробовав.
– В тот вечер… мы договаривались о встрече загодя, и я вышла из дома. Было сыро, тут вы верно подметили. И как-то очень уж темно. Я еще, помнится, подумала, что у меня выходит все аккурат, как в женском романе, где таинственные поклонники.
Она засмеялась и смахнула слезинку с ресниц.
– Сергей уже ждал. Он хороший человек, немного самолюбивый, но хороший, поверьте…
– Верю.
– Не верите, но мы ж не о том… в тот вечер мы поссорились. Я попросила его прекратить эту нелепую вражду. Слово за слово, но он стал обвинять меня в том, что я и Алексей… нелепое предположение! Да, он мне не родной отец, но если бы подобная мысль взбрела мне в голову, то он никогда бы… он был человеком исключительной порядочности. Я так и сказала Сергею… он же обозвал меня… и это было так знакомо… я вдруг увидела не его, а Мишеньку… и бросилась бежать. Он звал, просил прощения, а… а потом я наткнулась на князя.
– Он был уже мертв?
– Нет, – Елизавета покачала головой. – Я подумала, что мертв, дотронулась, а он застонал и…
– И что вы сделали?
– Позвала на помощь. Я знала, что Сергей где-то рядом и… и он появился.
– Быстро?
– Да, кажется… – она нахмурилась, вспоминая подробности той ночи, которую, верно, желала бы забыть. – Почти сразу и… и он сказал, что, наверное, с сердцем плохо стало… и надо отнести…
– Почему не в усадьбу?
– А как вы это представляете? – Елизавета Алексеевна грустно рассмеялась. – От разговоров не отмылись бы… я и Сергей… и князь еще полуживой… сказали бы, что это мы его…
– А это вы?
Молчание. И пальцы на губах, запирающие опасные слова.
– Его все равно не спасли бы… я как-то сразу поняла, что… а он говорил про быка.
– Какого быка?
– Не знаю. В округе нет быков, коровы только и те… местные мелкие, их и ребенок не испугается. А князь все про быка твердил, что спасаться нужно. Странно так… и пока добрались, он замолчал. Белый такой, дышит прерывисто. Сергей велел мне домой идти. Я за врачом хотела, а он… вы можете меня осуждать, я сама себя осуждаю, но я послушала. Не потому, что я слабая женщина, которая боится сделать по-своему… и да, тоже верно, слабая и боится, но в тот момент я вдруг поняла, что могу стать свободной. Я ведь знала о завещании… он думал, что никто, а я знала…
– Из письма?
– Из письма. И еще из его забывчивости. В последние месяцы он стал… странным. Да. Он ведь не старый совсем… если бы старик, это можно было бы понять. Он забывал.
– Что?
– Все. Бывало, сидит, читает, потом бросит книгу или газету и начинает ходить по комнате, бормотать что-то, затем спохватывается и ищет. Однажды всю гостиную перерыл, очки искал, а они в кармане были. И по мелочам… позовет конюха, а зачем – не помнит. Его это пугало. Он как-то признался, что забыл, как Мишенька выглядит… но это-то нормально, он любил сына очень сильно, но ведь не видел давно. Я успокаивала. А он принес старые фотографии, еще со службы, и начал спрашивать, кто эти люди. Вот я и подумала, что это… это ведь примета, что осталось ему недолго. И ушла… смерть, она со всеми случается. Теперь вот… буду жить, думая, что я его убила.
Она замолчала, прикусив губу, и отвернулась, уставившись пустым взглядом в окно.
– Елизавета Алексеевна, – Натан Степаныч обратил на себя внимание. – Вы позволите на денек-другой остаться в доме? Мне дворню опросить надобно…
– Полагаете, его убили?
– Полагаю, что и вас могут…
– Из-за наследства?
– Из-за наследства, – не стал спорить Натан Степаныч.
– Но ведь завещание…
– Именно, дорогая моя… именно.
Иван не знал, что Антонина делала с Ларой, вернулся он быстро, но в дом заходить не стал, сел на лавку, прислонился к стене, ноги вытянул. Да так и сидел, слушая гудение пчел. Синяя стрекоза носилась над кустом сирени. Стрекоза плясала.
Солнце жарило. И Иван, сам того не замечая, погрузился в полудрему. Наверное, он просидел долго, очнулся от прикосновения.
– Сгоришь, – недовольным тоном произнесла Антонина. – В дом иди.
Он пошел, чувствуя, как кружится голова. И вправду, погода такая, что тепловой удар получить можно.
– На вот, – в доме Антонина сунула старую эмалированую кружку. – Пей.
Выпил, не спрашивая, что пьет. Кислое. Холодное. Оставляющее характерный привкус клюквы и мятную свежесть.
– Взялся на мою голову… – Антонина кружку забрала и сказала: – Иди, ждет твоя…
Лара выглядела непривычно тихой. Она сидела на стареньком диванчике, застланном вязаным покрывалом. Покрывало было полосатым, и Лара странным образом терялась на фоне синих, желтых и красных полос.
– Страхи-то я погоняла, а вот язву лечить – это к врачу. Травок дам, пусть пьет на ночь. И утром тоже… и не молчит. В молчании человек замыкается, а замкнувшись – себя терзает. Себя же, Ларочка, любить надобно.
– Люби себя и плюй на всех…
Она пыталась казаться бодрой, улыбалась даже, но натужно, и улыбка выглядела нарисованной.
– Про плюй я ничего не говорила, – поправила Антонина. – С другими-то оно по-всякому быть может, жизнь – сложная штука, и ничего-то в ней нет однозначного. Одного полюбить можно, другого – возненавидеть люто. Но сама себя чтобы, тело свое… подумай, твой разум поставлен над телом. И если ты разумом, всей душой себя ненавидишь, то разве не будет это тело разрушаться?
В ее словах имелась та простая очевидная истина, которая многим пациентам Ивана казалась недоступной. Они приходили, ненавидя себя, думая, что стоит исправить природную ошибку, скажем, нос или уши, которые чересчур велики, подбородок, форму глаз… откорректировать то, что дано свыше, и непременно сразу же себя полюбят.
Иван пытался разубедить, поначалу истово, еще веря, что способен изменить хоть что-то, потом уже – для проформы, понимая: не отступятся.
И будут ждать чуда.
А получив его, успокоятся ненадолго и придут вновь, потому что не умеют любить себя, и будут искать новые недостатки… а Иван их исправит.
Под взглядом темных глаз Антонины стало вдруг стыдно и за себя, и за тех людей, с которыми Иван не сумел сладить. И вправду, выходит, ведьма. Она же усмехнулась и пальцем погрозила, мол, знаю, о чем думаешь, – пустое. Каждый решает за себя.
– Что до вашей девицы, то да, бывала она тут, – Антонина села и ногу на ногу закинула. Вытащила из кармана пакет с карамельками… – Курить бросаю. Дурная привычка, вредная, а расстаться не могу. В сахаре тоже особой пользы нет, но лучше уж карамельки, чем сигарета.
Хорошо у нее в доме. Спокойно.
Круглый стол. Расшитая скатерть и ваза с ранними яблоками, еще зеленоватыми, но духмяными. Ведро со щучьим хвостом на подоконнике. Непременная березка в старой кастрюле расползлась по стене, по выцветшим обоям.
– Машка… Маргарита… – Антонина пробовала это имя на вкус. – К кому ездила, не скажу, потому как не знаю. Она мне так и сказала, что не моего это ума дело.
Карамельки.
И тонкие холеные пальцы Антонины.
Ознакомительная версия.