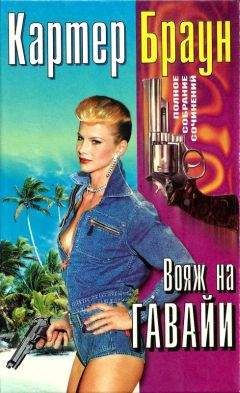— А отдавали Перфильеву из рук в руки?
— Нет, что вы! Мы давали Славе.
— Сейчас составим маленький протокол, и вы свободны, — сказал Синельников. — Но одно условие: никому ни слова.
— Ну что вы! Как можно?! Я все понимаю.
Подписав протокол, вконец расстроенный Румеров ушел, а Синельников отправился к начальнику отдела.
Андрей Сергеевич выслушал его и сказал: — Знаешь что; инспектор Алексей, нам эту кашу и в семь ложек не расхлебать. Выходы будут… Он по внутреннему телефону позвонил начальнику отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Тот сказал: «Прошу», и они поднялись к нему на третий этаж. Уяснив суть дела, начальник ОБХСС вызвал своего сотрудника Ковалева, которого Синельников часто встречал в управлении, но знакомства они не водили.
Договорились так. Ковалев с помощью опытного ревизора займется проверкой отчетности, связанной с деятельностью бывшего сотрудника комиссии Перфильева, и вообще всем, что имеет отношение к распределению фондов, а Синельников будет разрабатывать свою версию и вести дознание по линии Перфильев — Коротков — Румеров — Максимов. Синельников с Ковалевым вместе спустились в буфет, поели и вышли во двор покурить. Синельников рассказал Ковалеву кое-что поподробнее, и они расстались, условившись каждый день поутру обмениваться добытыми сведениями. — Жалко, завтра пятница, — сказал на прощанье Ковалев. — Да, придется пару деньков позагорать… Был третий час. Синельников прикинул: теперь уже можно, пожалуй, и к патологоанатому. И пошел в морг. Евгений Исаевич, низенький крепкий черноволосый старик с квадратным лицом и кустистыми бровями, стеснявшийся, как знал Синельников, собственной специаль-ности, встретил его у входа в свое мрачное рабочее обиталище. Он покуривал по старинке папиросу, блаженно щурясь на солнце. Дверь морга была открыта, и оттуда тянуло ледяным холодом. Поздоровавшись с ним, — Евгений Исаевич никому никогда не протягивал руки, опять же из-за стеснительности, — Синельников спросил, как дела с Перфильевым. — Немного хуже, чем у нас с вами, — сказал старик хрипловатым баском и, как бы извиняясь за непервосортную, шутку, поспешил прибавить: — Я имею в виду, милый Алексей Алексеич, что если бы он и был еще жив, то ему не позавидовал бы, представьте, никто. — Почему так, Евгений Исаевич? — Я ответы на ваш вопросник еще не писал, но я его помню. Вы ведь ради этого меня навестили? — Конечно. — Ну так вот, могу ответить устно. Умер Перфильев, попросту говоря, оттого, что захлебнулся, совсем немного захлебнулся, может быть, всего от одного вдоха.
Про мозг ничего пока сказать нельзя, нужно произвести гистологическое исследование, а что касается сердца, то могу утверждать совершенно определенно: у него непосредственно перед смертью случился обширный инфаркт задней стенки левого желудочка. — Интересно, интересно. — Да, так вот. Посторонней жидкости, то есть речной воды, в легких было совсем мало. Он ведь сделал, повидимому, всего один вдох, да и то поверхностный… Да… А насчет того, мог ли он самостоятельно двигаться в момент, предшествовавший смерти, должен вам сказать, милый Алексей Алексеич, что в таком состоянии человеку не то что двигаться, а и вздохнуть трудно… И больно… Он же испытал кинжальную боль.
Синельников вспомнил рассказ Марии Луньковой, ее слова о том, что Перфильев закричал так, словно его ударили ножом.
— Это что, термин такой — кинжальная боль? — спросил он.
— Ну, термин не термин, а у нас так принято говорить.
— Вы забыли об алкоголе, — сказал Синельников, наперед зная, что ничего Евгений Исаевич не забыл, а просто желая немного подыграть старику, не упускав шему случая показать и защитить свой высокий профессионализм. — Я ничего никогда не забываю, — так и ответил Евгений Исаевич. — Послал в лабораторию на анализ. — Спасибо большое. — Синельников обеими руками взял его правую руку и пожал ее. — Не за что, милый, не за что. Будьте здоровы. А бумажку я пришлю, как только принесут анализ. — Будьте здоровы, Евгений Исаевич.
Уходя, Синельников имел право быть довольным собою. Его версия начала обретать прочную опору — по крайней мере, со стороны судебно-медицинской экспертизы.
Сегодня ему ничего нового предпринять не удастся. Надо подробно поговорить с дочерью и сестрой Перфильева, но это невозможно, пока они не похоронят его.
Теперь для Синельникова самое важное — как можно больше узнать о том, каков он был при жизни, как прожил последние свои три года.
Глава IV. КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА РАССКАЗЫВАЕТ СЕСТРА
Вы представляете, как это больно, когда вдруг перестаешь узнавать родного брата? Вот был человек, ты считала его верхом совершенства, преклонялась перед ним, и на твоих глазах он превращается в существо, совсем чуждое твоему идеалу, самому себе противоположное… Я ведь на шесть лет моложе Саши, он всегда был для меня идеалом… Пожалуй, я его считала скорее отцом, чем братом. Отец наш погиб на войне. В сорок пятом мне было восемь лет, а Саше четырнадцать, он в ремесленном учился и уже что-то там зарабатывал. Но не в этом даже дело. Он, например, задачки мне решать помогал, домашние задания, а я, сказать по правде, была в математике порядочная бестолочь. Ему ребята со двора свистят, а он не уйдет, пока все мне не растолкует. И никогда не воспитывал, не наставлял и подзатыльников не давал. Просто я с ним одним воздухом дышала, и это уже было воспитанием. Мать иногда и то срывалась, а он обладал какой-то совсем непонятной мне способностью понимать и прощать людей. Будто он всегда был старше всех на свете… Но я слишком далеко забралась, а вам надо поближе. Как объяснить? Мне кажется… нет, я уверена, что всему причина — смерть Тамары, Сашиной жены. Она мне ровесница и умерла сорока двух лет… Рак крови… Это невозможно вообразить. Такая обаятельная женщина… Умница, веселая, работящая… В тридцать четыре года защитить докторскую диссертацию — это не каждому дано, правда? А у нее маленькая дочь на руках, и дом сама вела, и работу не оставляла.
Мы с нею дружили еще с шестидесятого года, можно сказать — со дня их свадьбы. Они с Сашей поженились, когда она только-только окончила институт и приехала в наш город по распределению. И Саша любил ее с первого дня. Я нисколько не преувеличиваю; с того самого дня и до самой ее смерти… нет, до своей смерти… Саша любил ее так что готов был прыгнуть из окна, лечь под поезд. Ну все, что хотите. Он девятнадцать лет каждый день — понимаете, каждый день — встречал ее у института после работы… А когда она уезжала в командировки по заводам, каждый день посылал письма. Как они друг друга любили, думаю, вряд ли кто любит, я, во всяком случае, других примеров не видела. Правда, как-то Тамара, это уже незадолго до смерти примерно за полгода, жаловалась мне, что у них с Сашей был разговор на щепетильную тему. Знаете, бывает когда жена зарабатывает намного больше мужа, то муж чувствует себя ущемленным, и на этой почве получаются разлады. Оказывается, спровоцировала разговор их ненаглядная доченька Лена. Он пытался в чем-то ее ограничить — кажется, не позволял носить Тамарины серьги, — а она говорит: «Ты, отец, молчи, ты тут не хозяин, мама шестьсот получает, а ты двести пятьдесят». Вот так… Но Саша с Тамарой вскоре объяснились, и он забыл об этом и думать… А насчет Лены… Это, знаете, для меня больной вопрос. Умом-то я сознаю, что глупо и недостойно относиться так к девчонке, тем более она мне родная пле-мянница. Но ничего не могу с собой поделать. Я уж иногда думала: может, это бродит во мне какая-то ревность? У нас с Сашей детство было несладкое, а тут перед ребенком расстилаются, как перед всесильным повелителем. Она себе ни разу носового платка не постирала. Отец ей туфли чистил, пуговицы на пальто пришивал. Мило, не правда ли? Так и из ангела недолго сделать мучителя, а Лена, простите меня, далеко не ангел. Вот и дошло до того, что она потребовала автомобиль. Купили и автомобиль. Но я опять как будто в сторону… В общем, представьте себе положение Саши, когда ему сказали, что его жена безнадежна. Он потерял голову. Мы однажды вместе навещали Тамару в больнице.
Он бодрился, шутил, а она только посмотрела ему в глаза и все сразу поняла. В артисты он не годился. Нет, это нельзя вообразить, это надо было видеть. В день похорон я боялась, что он помешается. А потом началось что-то ужасное. Неделю не ходил на работу, сидел дома и пил беспробудно. Раньше никогда не позволял себе лишнего. На работе к нему очень хорошо относились, неделю эту, конечно, простили, но я чувствовала: не останови его — покатится до конца. Кое-как вытащила его, пришлось на день запереть, чтобы в магазин не ходил.
А когда протрезвел, я ему говорю: «Что ж, ты и на могилу к Тамаре пьяный ходить будешь?» Только это и подействовало. Да ненадолго. С месяц держался, а потом опять… Правда, на работу ходил — значит, днем был трезвый, зато каждый вечер напивался до беспамятства. Как-то я заглянула, Саша лежит на тахте, смотрит в потолок безумными глазами и не реагирует ни на что. Лена на кухне сидит, читает учебник, пьет кофе. Я хотела посоветоваться, «как нам его сообща отвадить от пьянства, надо же спасать человека, а она, представьте, заявляет: «Он не маленький, должен сам понимать, а если хотите спасать — дело ваше, вы ему сестра». И вообще я ей немножко надоела своими посещениями. Вот так… У меня были Тамарины ключи от квартиры. Я их выложила перед нею и ушла. По-бабьи, конечно, поступила, теперь вижу, что вела себя неправильно, несолидно. Она же в дочки мне годится, а я с нею на одной доске. Стыдно вспомнить, да что поделаешь? Не исправишь. С месяц не показывалась я у Саши. И вдруг он сам является, и совершенно трезвый. Я так обрадовалась, хоть и невесел он был. Оказалось, сидит без денег, пришел просить взаймы. Насколько я знала, накоплений у них с Тамарой не было, тем более они недавно купили для своей дочки машину. А я одна, сын в армии служит. Пошли мы с Сашей в сберкассу, я сняла пятьсот рублей, сколько просил, даю ему, а он плачет. Совершенно, понимаете, распустился. Жалко смотреть, сердцу больно. Такой был великолепный человек, настоящий мужчина — и вот пожалуйста…