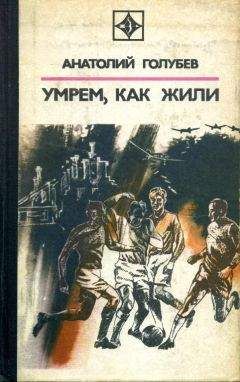Караваев прошел в комнату и уселся рядом с офицером. Они заговорили по-немецки, и жестом Караваев остановил конвоира, выводившего Сизова. Караваев говорил что-то, кивая головой в сторону Алексея, а тот, не зная языка, следил за его губами, мучительно пытаясь понять, о чем ведет речь его столь частый собутыльник. Мысль Сизова работала лихорадочно — он пытался вспомнить, не сболтнул ли чего-нибудь лишнего. Гарантией служила неприязнь ко всему советскому. Правда, неустроенность быта при новом порядке, не нравившаяся Сизову еще более, чем действительность советская, списывалась им совершенно искренне на трудности военного времени, и оба — Караваев и Сизов — в один голос утверждали, что все образуется.
«Неужто забыл, подлец, сколько вместе выпито?! А вдруг набрешет что, и измордуют меня, как этого комсомольца с электростанции?!»
Сомнения развеял голос Караваева:
— Что, Алексей, понервничал немножко? Не переживай. Я сказал господину следователю Молю и готов под присягой подтвердить, что ты человек, к новому порядку лояльный. Моего поручительства предостаточно. Ты свободен. Но, — он картинно вскинул руку, — советую тебе посидеть денька два-три в камерах с арестованными. Во-первых, если сразу выйдешь, твоим друзьям покажется подозрительным. Во-вторых, помоги нам. Послушай, что говорят по камерам. Мы знаем все и можем спокойно расстрелять каждого, как Толмачева, поднявшего при аресте руку на немецкого солдата. Но мы не варвары, мы проведем следствие и, доказав вину, накажем, чтобы неповадно было другим.
Скептически смотревший на Караваева. Гельд тем не менее кивал головой в такт словам говорившего.
Чтобы подтвердить высказанное расположение, Караваев разлил стоявшую на столе водку по стаканам и протянул один из них Сизову.
— Выпей, это поддержит. Всякое придется увидеть. И запомни — мы теперь с тобой одной веревочкой повиты. И если понадобится, будешь делать все, что прикажу…
Он чокнулся с Молем, осушил свой стакан и, встав, по-хозяйски открыл форточку. Вместе со свежим мартовским ветром, пахнущим сыростью и теплом одновременно, влетели невнятные звуки. Водка на мгновение заглушила все, но, когда жар во рту стал остывать — потянуться за закуской Сизов не посмел, а ему не предложили, — он явственно услышал несущуюся со двора из уличного динамика музыку. Это был его любимый Чайковский. «Танец маленьких лебедей» — мелодия, волновавшая его некогда до глубины души, непременно вызывавшая безудержное желание помечтать, уйти от обрыдлой жизни куда-то в воздушное, ласковое, нежное. Как ужасно все переплелось — и эти божественные звуки, и эта комната, и окровавленная маска вместо лица бывшего вратаря «Локомотива».
Моль осунулся и похудел. Чтобы поддерживать тонус и спокойнее относиться к изрядно надоевшему спектаклю допросов, однообразных и, в общем-то, не давших за четыре дня никаких результатов, он непрерывно пил. И от этого покалывало сердце. И что самое обидное — поиски главаря не увенчались успехом. Его поимка славно бы завершила проведенную операцию. Вчера наконец он отправил обстоятельный доклад своему начальству и как следует выспался.
«Да, — он смотрел на себя в большое, не по размерам ванной комнаты, привезенное откуда-то зеркало. — Мешки под глазами слегка опали. Или мне это только кажется?» — Он оттянул пальцем веко, и вид красной воспаленной глазницы заставил его вздрогнуть — слишком явственно напомнил кровоподтеки допрашиваемых.
«А собственно говоря, почему бы и нет? Уверен, доведись мне оказаться на их месте, я был бы разделан не хуже. Странно другое — рабочие парни ведут себя слишком грамотно. Не ожидал. Казалось, дурачков легче заставить говорить правду, если и не всю правду, то частями. Дурачки молчат…»
Он начал мягкими мазками наносить на щеки пушистую пену. Наносил тщательно, словно заботился, чтобы каждый волосок получил свою порцию. Заправив в бритву новое лезвие, стал так же старательно выбривать щеки. На правой скуле волосы росли у него в трех направлениях, и ни один незнакомый парикмахер не мог выбрить его тщательно с первого раза. Тыкать носом незадачливого брадобрея доставляло Молю немалое удовольствие.
«Как получилось, что ушел главарь? Мы схватили почти всех, а он ушел. Это не случайность! Значит, кто-то предупредил его?»
Закончив бритье, Моль долго натирал щеки кремом, пока на бледной коже не выступил румянец неестественно коричневого отлива. Тон нездорового румянца опечалил Моля.
«Надо себя беречь. Конечно, солдат, возвращающийся домой с победоносной войны без награды, не солдат. Железный крест стоит того, чтобы не поспать из-за него несколько ночей. Но все-таки здоровье дороже всяких иных благ. Хорошо, что удается соблюдать диету. С детства отец приучил меня есть только необходимое организму. Он справедливо утверждал, что лишь треть съедаемой пищи поддерживает в нас жизнь, а за счет других двух третей живут наши врачи».
Растроганный воспоминанием об отце, он, напевая легкий марш, быстро оделся и подошел к телефону.
— Гельд, как дела? Все готово? А сброд вывели весь? Так, так. Хорошо. Я буду через несколько минут. Кстати, Шварцвальд пришел? Пригласите его, ему будет полезно посмотреть этот спектакль.
На ходу натянув перчатки, он вышел во двор. Вчерашняя затоптанная брусчатка была покрыта свежим, легким снежком. Морозило по-утреннему, как только может морозить в марте, когда холод еще силен, но в него уже не веришь, зная, что власти зимы приходит конец.
«Майн гот! Как нелепо одеты эти свиньи! — Моль оглядел строй заключенных, прижатых к трем стенам. — Когда они вместе, это внушительная толпа. Когда идут через кабинет по одному, просто нудная и бесконечная вереница теней».
Подошел Шварцвальд, и они поздоровались.
— Что вы затеяли, Моль? Гельд звонил мне, будто у вас дается преинтереснейший спектакль.
— Так и есть. Сейчас мы проведем показательную казнь одного из этих ублюдков. Думаю, что, увидев все воочию, остальные будут на допросах словоохотливее.
— Моль, я же вам говорил, что не люблю смертей, — поморщился Шварцвальд.
— А это разве смерть? Это уничтожение скота. Не больше.
Шварцвальд промолчал, не желая вдаваться в спор с человеком, располагавшим, по его данным, отличными связями в Берлине.
«Когда-нибудь, — рассуждал Шварцвальд, — эта совместная служба в заброшенном русском захолустье может оказаться неплохой основой для карьеры. И черт с ним, что он немножко садист. У каждого из нас есть недостатки. Но он мне пока не вредил».
За спиной послышались шаги. Они обернулись. Толпа, не понимая еще толком, зачем выстроили ее под дулами стольких автоматов, повернула головы влево. Между двумя конвоирами, здоровенными полицейскими, одного из которых Моль нередко видел у дома убитого партизанами бургомистра Черноморцева, шел Толмачев. Руки его были связаны за спиной грязной веревкой. Лицо чисто вымыто, хотя следы побоев от этого казались еще страшней. Его поставили лицом к толпе, прижав спиной к высокой кирпичной стене. Конвоиры стали напротив, взяв автоматы на изготовку.
Моль сделал знак Гельду, что можно начинать, и тот, повернувшись к толпе, громко, будто благовещал, заговорил:
— Вы все знаете, сколь милостив новый порядок к людям, которые лояльно и честно выполняют свои гражданские обязанности. Но в нашем городе обнаружена группа, которая активно выступала против немецкой армии. Всякий порядок только тогда будет порядком, когда он строго выполняется. Один из его непоколебимых законов — неприкосновенность жизни немецкого солдата. Стоящий перед вами бывший рабочий электростанции при аресте пытался взорвать немецкого солдата гранатой. В его доме обнаружено также два автомата и много патронов. Любой террорист согласно законам военного времени подлежит расстрелу без суда и следствия, но мы милосердны. И провели серьезное дознание, полностью подтвердившее его вину. Именем нашего великого фюрера Адольфа Гитлера он приговаривается к расстрелу.
Моль с интересом переводил взгляд с лица Толмачева на лица в толпе, стараясь уловить ту реакцию, которую производят слова Гельда. Тупое безразличие со стороны Толмачева насторожило его.
— Мы надеемся, что все стоящие здесь правильно поймут наши усилия, направленные на выявление виновных и их наказание. Невиновные будут немедленно освобождены. Виновные расстреляны.
Гельд закончил свою речь явно не в том порядке, какого требовало произнесение приговора, и, нисколько не смущаясь повторением, сказал:
— Именем нашего великого фюрера Адольфа Гитлера Толмачев Александр приговаривается к расстрелу. Приговор приводится в исполнение немедленно.
Легкий шум прошел по толпе. Но Толмачев, ошалевший от побоев, стоял все так же безучастно, будто слова Гельда к нему не относились.