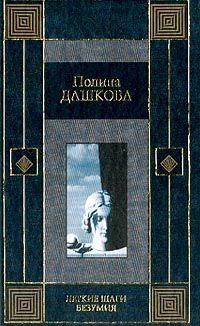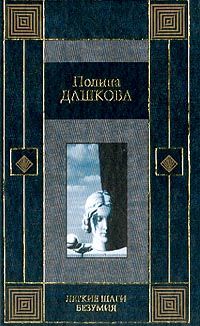Ознакомительная версия.
— Знаешь что, — предложила девушка, — давай с тобой спокойно все обсудим. Я попробую тебе объяснить. Это трудно, но я попробую.
— Хорошо, — кивнул он, — попробуй.
— Но только не здесь, не на лестнице, — спохватилась она, — хочешь, погуляем немного, дойдем до парка. Смотри, какая погода хорошая.
Погода действительно была замечательная. Стояли теплые майские сумерки.
— Понимаешь, Венечка, — говорила она, пока они шли к парку, — твой отец — очень хороший человек. И мать хорошая. Но она для него слишком сильная, слишком жесткая. А каждый мужчина сам хочет быть сильным, поэтому ты отца не суди. Ты ведь умный, Венечка. Всякое в жизни бывает. Если ты боишься, что я разрушу вашу семью, так я не претендую на это. Я просто очень люблю твоего отца.
Она говорила, Веня молча слушал. Он пока не мог разобраться, что творится сейчас в его душе. От сладкого запаха духов кружилась голова. На сливочно-белой Ларочкиной шее быстро пульсировала голубоватая жилка.
— Если ты скажешь матери, она не простит. Ни его, ни меня. Она просто не умеет прощать, поэтому тебе и отцу так тяжело с ней. А ты, Венечка, должен учиться прощать. Без этого жить нельзя. Я понимаю, в твоем возрасте очень трудно…
Вокруг не было ни души. Ларочка говорила так горячо и вдохновенно, что не глядела под ноги. Из земли торчали толстые корни старых деревьев. Споткнувшись, девушка упала, растянулась на траве. Клетчатая шерстяная юбка задралась, обнажив края капроновых чулок, розовые резинки подвязок, нежную сливочно-белую кожу.
Не дав ей подняться, Веня обрушился на нее всей своей сильной, жадной пятнадцатилетней плотью. Он стал делать с ней то, о чем смачно и подробно рассказывали одноклассники, что видел он сам дома, метельным февральским днем, на родительской койке.
Ларочка закричала, но он успел зажать ей ладонью рот и нос. Она брыкалась, извивалась под ним, она начала задыхаться. Не давая ей не только кричать, но и дышать, он умудрился перевернуть ее на спину, разжать коленом ее бедра, стиснутые до дрожи.
Она сопротивлялась изо всех сил, но Веня был крупным подростком, он был на голову выше своей пухленькой, маленькой жертвы. Недаром он имел пятерку по физкультуре, недаром был чемпионом школы по акробатике, мог отжаться на турнике пятьдесят раз без передышки и досрочно сдал нормативы ГТО.
Он даже удивился, как легко и быстро все у него получилось. Поднявшись и застегнув пуговицы ширинки, он взглянул на распластанное, словно растоптанное на траве тело. В густеющих сумерках он разглядел красные следы своих пальцев на нежном круглом личике. На долю секунды мелькнула трусливая мысль, а вдруг она умерла? Но тут же, словно в ответ, он услышал слабый, жалобный стон.
— Не надо никому говорить, — спокойно произнес Веня, — никому от этого легче не будет. Ты должна учиться прощать, Ларочка. Без этого нельзя жить.
Развернувшись, он быстро зашагал прочь, домой. Перед тем как лечь спать, он выстирал все, что было на нем надето, — брюки, фланелевую ковбойку, теплую трикотажную фуфайку и даже трусы. Ему казалось, что вещи пропитались запахом сладких дешевых духов.
Через несколько дней он услышал, что Ларочка бросила свой техникум, завербовалась на целину. Ее пожилые родители, соседи из квартиры напротив, тоже вскоре исчезли. Говорили, будто они переехали в другой город, чуть ли не в Целиноград. Но Веня к разговорам не прислушивался. Ему было все равно.
Москва, март 1996 года
Катя Синицына проснулась от долгого настырного звонка в дверь. Она обнаружила, что лежит на ковре в большой комнате, в старом драном халате, накинутом на голое тело.
— Митька! — громко позвала она. — Ты оглох, что ли? Дверь не можешь открыть?
Она встала, пошатываясь, побрела в прихожую. Звонок продолжал надрываться. Не зажигая света, не спрашивая, кто там, Катя распахнула входную дверь, которая оказалась незапертой.
— Чего трезвоните? Не видите, открыто? — недовольно спросила Катя мужчину, стоявшего на пороге.
Войдя в прихожую, заперев за собой дверь, мужчина щелкнул выключателем, взял в ладони Катино лицо и внимательно посмотрел в глаза.
— Катюша, деточка, тебе нельзя сейчас быть одной, — ласково сказал он, — умойся, оденься, поехали к нам.
Только тут Катя окончательно проснулась, уставилась на неожиданного гостя, узнала в нем своего свекра, Митькиного отца, Михаила Филипповича Синицына, и горько заплакала.
— Да, деточка, ты поплачь, — он погладил ее по стриженым рыжеватым волосам, — ты поплачь, станет легче. Оля совсем не может плакать, мама с бабушкой тоже, и я пока не могу. Все внутри горит огнем, жжет, но поплакать не получается.
— Я сейчас, — Катя высвободилась из-под его руки, шмыгнула носом и растерла кулаком слезы, — вы подождите, я сейчас оденусь. Вы здесь подождите. — Она указала на низкую скамеечку в прихожей, скользнула в комнату и захлопнула за собой дверь, прямо перед носом у Михаила Филипповича.
Он не обиделся. В прихожей так в прихожей. Разве можно требовать от бедной девочки вежливости после того, что ей пришлось пережить? Видно ведь, она в ужасном состоянии. Все в ужасном состоянии, разве можно обращать внимание на такие мелочи?
Михаил Филиппович изо всех сил старался не думать о сыне. Случившееся казалось каким-то нелепым, невозможным кошмаром. Он еще не видел сына мертвым, он гнал от себя мысль об этом, короткая фраза «Митя повесился» казалась ему диким розыгрышем, чьей-то злой и неумной шуткой.
Он поехал за Катей потому, что не мог найти себе места, не знал, как быть теперь, чем занять пустой кусок времени до похорон. К тому же девочку действительно было очень жалко. Она ведь почти сирота, хрупкое, беззащитное существо. Некому о ней подумать — Ольга взяла на себя всю суету с кремацией, с оформлением документов, жена и теща бродят по дому как тени, занимаются генеральной уборкой, поминки ведь решили устраивать не здесь, в Выхине, а у них. Внуки в гимназии с утра до вечера.
Кремация, поминки — о ком это все? Неужели о Митюше, о сыне, о красивом, талантливом, добром мальчике? И ведь как получилось — даже в храме отпеть нельзя, ни один священник не станет отпевать самоубийцу.
Нет больше Митюши, убил он сам себя — зачем? За что он сделал это с собой и с ними со всеми? Чем они провинились перед ним — родители, сестра, жена Катя?
Михаил Филиппович считал, что сына своего знает и чувствует достаточно хорошо. Митя с раннего детства был открытым, чистым, искренним мальчиком. Не было в нем тех тайных подтекстов, душевных черных дыр, которые могли бы хоть как-то объяснить этот дикий поступок.
Натягивая джинсы и свитер, Катя размышляла о том, стоит ли уколоться сейчас, заранее, или лучше взять с собой несколько «колес» и принять потом, спрятавшись в ванной. В последнее время «колеса» почти не действовали. Кайфа не было, но отходняк становился мягче. На «колесах» можно перетерпеть, перебиться до следующего укола. По большому счету, ей сейчас все равно, она могла бы и там, у них, кольнуться, даже не прячась в ванной. Какая теперь разница? Рано или поздно они все равно узнают. Менты скажут или еще кто-нибудь. Ольга, конечно, будет молчать… Но какой теперь смысл скрывать? Если Мити больше нет, разве так важно, что: жена его была наркоманкой? Катя даже не заметила, что теперь думает о самой себе в прошедшем времени, будто ее тоже больше нет.
Она вспомнила, как полгода назад сестра мужа нагрянула нежданно-негаданно, без предупреждения. Митя уехал на несколько дней куда-то, Кате тогда уже не важно было — куда. Он сказал, конечно, но она тут же забыла. Уехал — и ладно.
В квартире, разумеется, творилось черт знает что: грязища, бутылки по полу валяются, в раковине окурки плавают, музыка орет. А сама Катя ходит все в том же драном засаленном халате, накинутом на голое тело, под сильным кайфом.
Бутылки-то всего две было, «Привет» и «Абсолют», но обе пустые и обе попались Ольге прямо под ноги. Катя как раз решила устроить себе одинокий праздник — три дня не вылезала из дома, кололась и пила, пила и кололась. При Митьке она не позволяла себе в то время так расслабляться, это потом ей уже стало совсем безразлично, а тогда она еще держалась при нем, старалась, чтобы он тешил себя надеждой, будто не совсем она на игле, а как бы частично (будто это возможно — частично). Но, стоило ему уехать, она уж загудела в одиночестве…
И тут — здравствуйте! Ольга во всей красе, бизнес-леди, фурия в деловом костюме…
Она поволокла Катю в ванную, поставила под душ, воду включила ледяную, садистка. Потом заставила выпить две чашки крепкого кофе и только после этого начала разговаривать.
— Сколько это продолжается?
— Год, — честно призналась Катя.
— Чем ты колешься?
— Чем придется.
— Покажи ампулы.
Ознакомительная версия.