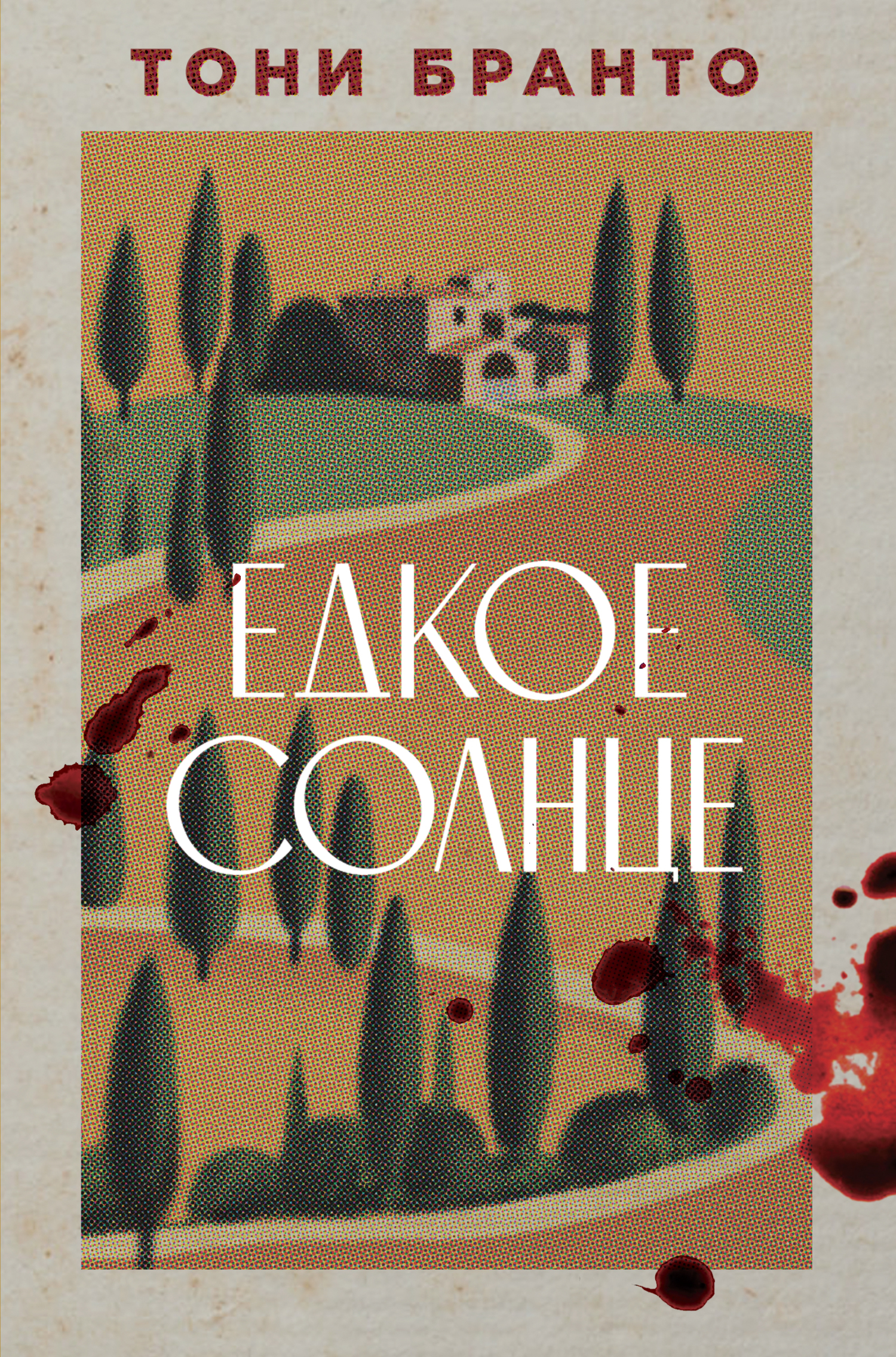своей глубине страх, предвестник страха, и даже не страха, а лишь сотой его части, что, в конце концов, глупо, ведь у меня не было причин бояться своей крёстной – видимых, по крайней мере; здесь, вероятнее, подействовала некая монументальность её персоны, как бы громко это ни звучало.
Я ещё не раз обращусь к громким словам, без них не сложить представления о том, кто такая Валентина.
Как бы то ни было, в те дни я ошибалась по любому поводу. И насчёт крёстной в том числе.
Позади кресла Валентины на стене висела плашка с изображением Мадонны, чей лик был мягок и кроток, я невольно переводила взгляд с него на лицо Валентины и могу поклясться – сходство было впечатляющим. Обе эти женщины, а вернее сказать, их образы в ту минуту воплощали милосердие и покой, достигнутый через муки, но мне упорно не верилось ни в правдивость одной, ни в экзистенцию другой ввиду моего тогдашнего невежества.
Мы шили столовые салфетки, два набора – повседневный и праздничный. Сама не пойму, как оказалась замешанной в это. В нашем распоряжении была швейная машинка, а ещё лён, сатин, качественные нити. Я всё гадала, откуда у нашей кружевницы деньги на такую роскошь – рулонов был полный шкаф. Существовала она, с маминых слов, только на арендную плату и кое-какую ренту. А у синьора Флавио Валентина завелась подобно мыши, прибрав к рукам, как случайно обронённую и позабытую губку, гостевой домик – и бессрочное в нём обитание стало её вознаграждением за ведение хозяйства. И вдруг осенённая простой, но такой унизительной мыслью, я тихо возрадовалась: а Валентина-то и была, по сути своей, одинокой дряхлеющей мышью, забившей норку лоснящимися сокровищами – льном и сатином, находя в том высшее блаженство и оправдывая тем самым своё тусклое и позорное существование. Бедная, бедная моя синьора! Как сладко думать о вас в таком ключе!
Наша маленькая гостиная соединялась по-американски с кухней, косые лучи дня выхватывали из неё столбы пыли, поднятые взмахами отлежавших своё тканей, от них мои глаза слезились, я чихала и уже начинала задыхаться. В конце концов я не выдержала и подскочила к открытым дверям, вдыхая зной с улицы. Потом взглянула через плечо на Валентину, мою маленькую гадину, как я стала про себя её величать. Пыль её не брала, разумеется. Я затосковала по дому, но говорить об этом в открытую, чтобы подарить этой женщине лишний козырь, не собиралась.
– Раз уж мы молчим о моих родителях, могу я хотя бы взглянуть на их бывшую комнату?
– Для чего вам это нужно? – спросила Валентина.
– Вообще-то, вы запретили говорить, но раз сами спрашиваете… Просто там мама и папа были в последний раз счастливы – ну, по-настоящему, вот я и хотела…
Я обосновала свой порыв грамотно, на языке взрослой синьоры, Валентина не могла мне отказать. Но она, тем не менее, отказала и приправила свой отказ холодным равнодушием:
– Теперь там счастлива я.
Ну? Что я говорила? Гадина!
Я вышла, ничего не сказав, устав притворяться, что могу быть хоть сколько-нибудь заинтересованной в томлении себя в этом маринаде из пыли, колющих игл и слов, напряжённости и даже жестокости. Следующий час или около того я наблюдала из своей постели, задрав ноги на стенку, лазуритовое небо в окне, становившееся чуточку сизым к горизонту. Я пожалела, что не взяла журналы. Вообще, о чём я думала, когда соглашалась на эту поездку? Телевизор наверняка существовал в этом царстве, но в хозяйскую виллу мне было запрещено входить… Ах, да – телевизор! Вот что милая Валентина заботливо прячет в своей спальне. Прячет от меня!
Я дождалась, когда она ушла в большой дом проверить, остался ли её порядок нетронутым после Нино, и поднялась на второй этаж. Подёргала ручку. Дверь оказалась закрытой на ключ. Это уже не забавляло или удивляло, а настораживало. Валентина темнила. У меня своей комнаты никогда не было – кроме этой тосканской, если я могла называть её своей за пределами мыслей. Но и та не запиралась. Я была насквозь прозрачна и настолько же проста, насколько прямой и нехитрой была красота моих шестнадцати лет. Что же могла прятать там эта женщина – прятать в доме, который даже не закрывался на ночь? Разумеется, не пристрастие к игровым шоу и мелодрамам. Нет. Там точно хоронился некий её позор, какой-то её срам, нечто вульгарное и чёрное, как её душа затворника.
Замочная скважина не дала подсказки, в неё проглядывался только краешек кровати, угол ковра и туалетный столик, которым раньше пользовалась мама, и больше, кажется, ничего. Но там было что-то ещё, я уверена, где-нибудь в потаённых безднах шкафа или на втором дне одного из ящиков. Я ж не дура. Но, боже мой, какая прелесть! Синьора-синьорина, да не просто Валентина! Почему-то тогда, в шестнадцать лет, мне доставляло дикое удовольствие уличать сорокадевятилетнюю интеллигентную даму в наличии у неё некой тайны. Что говорить, боги юности часто бывают глупыми.
В тот же день за ужином я не удержалась и с издёвкой спросила:
– Так вы у себя там, что ли, труп держите?
И поняла, что попала в некую чувствительную точку, вроде мозоли. Не окажись там чего-то важного, Валентина дала бы с лёту сухой ответ. Она промолчала, и это значило, что ответ ещё не успел так быстро созреть в этой хитрой головке.
– Знаете, крёстная, а я даже поверила, что вы с нетерпением ждали меня.
Но Валентина, моя гранд-дама полусвета-полутьмы, не позволила себе опуститься до глупой моей простоты. Её замечание прозвучало строго и одновременно учтиво:
– Любопытство – черта положительная, когда не возникает от недостатка воспитания. Доверьтесь мне, дорогая, и я научу вас тратить свободное время с пользой.
Я только усмехнулась.
– За две недели? Сомневаюсь.
Умываясь перед сном, я подумала, что, может, уже перегибаю палку и в комнате Валентины ничего такого и не было, и она просто имела некую не нуждающуюся в объяснениях привычку запирать свою обитель. А когда вошла к себе в спальню, я обнаружила томик Библии в чёрном сафьяновом переплёте, аккуратно возложенный к изголовью кровати. В книге была закладка. Ну, это уж слишком! Я хотела взлететь по лестнице и швырнуть – именно швырнуть этот увесистый фолиант в Валентину, но поняла, что сразу открою ей тем самым свою слабость, внутреннюю несостоятельность, покажу, сколь я незрела, неопытна. Нет ничего плохого в том, чтобы быть неопытной в шестнадцать лет, но в