Он и не затрагивал. Но прошло больше двух недель, а от них ничего не было слышно. Может быть, грузовик с барахлом уже катит в Копенгаген? И как вы там будете жить, ребятки? Через пять лет будете говорить со мной по-датски?
Он откусил еще кусок пенопласта. Что будет с обществом, если сыновья не говорят на языке отцов?
Бесспорность этой мысли, кстати, сомнительна. Скорее всего, это предрассудок. Многие именно так и живут, к тому же в такую жару и думать на эту тему неохота. Не меньше тридцати градусов в тени. Он пошел за второй чашкой кофе, но его перехватила влетевшая в кафетерий Эва Бакман.
— Вот ты где! — крикнула она, отдуваясь. — Мы получили рапорт — два трупа в морозильнике. Хочешь принять участие?
Гуннар Барбаротти на секунду задумался. Да, хочу. О жизни подумаю в другой раз, а морозильник в такую жару — то, что нужно.
Эбба с трудом удержалась, чтобы не сойти с поезда в Упсале. Напротив нее уселись двое — молодой человек и девушка. Оба коротко стриженные, оба в очках; наверняка студенты — тут же уткнулись в свои конспекты, бормоча и что-то подчеркивая. Она исподтишка наблюдала за ними, не в силах отвязаться от мысли, что они могут оказаться товарищами Хенрика по университету. Конечно, семестр еще не начался, но все же… Она закрыла глаза и попробовала представить Хенрика. Он появился, но на какую-то долю секунды, и тут же исчез. Она сделала еще одну попытку — тот же результат. Это ее раздражало, но в последнее время так было почти всегда. Хенрик ускользал от нее, становился все более и более неуловимым. Неужели я забываю своего сына? — с ужасом подумала она. Почему ты не останешься подольше, Хенрик? Почему я ощущаю тебя только в этих проклятых бело-зеленых пакетах? Ее передернуло. Она вдруг поняла, что отправилась в эту поездку как раз вовремя. Потом было бы уже поздно.
Она позвонила Лейфу по мобильнику, но успела поговорить с ним всего полминуты — разговор прервался. Он, похоже, не особенно удивился. Впрочем, ее муж никогда не удивлялся. Заверил, что они с Кристофером прекрасно справятся, и спросил, когда она вернется.
Несколько дней, сказала она, но не была уверена, что он ее услышал — как раз в эту секунду в трубке что-то пискнуло и слышимость исчезла. Ладно. Позвонит, если ему интересно.
Поезд остановился в Книвсте. Внезапно она вспомнила, как пару недель замещала учителей математики и биологии в местной школе. Это был ее второй или третий семестр на медицинском факультете, и она пользовалась любой возможностью подработать. Эбба запомнила грозную толпу враждебно настроенных подростков и чувство собственного бессилия — она прекрасно знала, что управлять ими не сможет. Ей стоило нечеловеческого напряжения удержать их внимание. Эта пытка, к счастью, продолжалась недолго. Она тогда возблагодарила Бога, что не выбрала отцовскую профессию.
Ей тогда было двадцать или двадцать один… только сейчас она сообразила, что многие ученики были всего на четыре-пять лет моложе ее.
Эббе почему-то показалось странным, что эта школа наверняка все еще существует. Где-то там, за окнами вагона. Тот же класс, где она проводила свои уроки, та же обитая сосновыми панелями учительская с кожаным диваном, те же пыльные, полумертвые цветы в горшках, те же учителя… те, что были помоложе, наверняка еще работают. Все это продолжает существовать и существовало все это время, каждый день и каждый час, скоро уже двадцать лет, пока она была так занята своей карьерой. Почему-то эта мысль показалась ей очень неприятной, почти непристойной. Вдруг она подумала, что если сейчас спрыгнет с поезда и найдет эту школу, этот класс с протечкой на потолке, эти непостижимо безобразные грязно-зеленые шторы… если она найдет эту школу, колея ее жизни тут же переменится и у нее появится возможность начать все сначала. Какой же это был год? Восемьдесят пятый… тот самый год, когда в ее жизни появился Лейф Грундт. Она еще не родила детей, еще не вступила на неумолимую стезю, которая привела ее к этому проклятому сорокалетию… но вот если сейчас соскочить с поезда и помчаться в поселок Книвста, время вывернется вокруг своей оси, как петля Мёбиуса, и она сможет начать сначала свою жизнь и прожить ее по-другому. В этой другой, новой жизни она ни за что не позволит украсть у нее любимого сына… он не будет болтаться у нее в груди в двух бело-зеленых…
Поезд дернулся и начал набирать ход. Что со мной? — очнулась она. Что за мысли лезут в голову? Надо положить этому конец. Я не узнаю себя. А если я не узнаю себя, то что тогда… что тогда остается от меня? Тогда меня никто не узнает… Кто не узнает кого?
Она схватила кем-то забытую газету, но не смогла прочитать ни строчки. Ее объял ужас, и она начала молиться. Молиться Богу, в которого не верила.
Помоги мне, пожалуйста. Не дай мне лишиться рассудка. Сделай, чтобы разговор с сестрой хоть что-то, хоть чуть-чуть для меня прояснил. Не наказывай меня за мое высокомерие.
Последняя мысль все чаще приходила ей в голову.
Высокомерие. Потеря сына — это наказание. Она была эгоистична, она поставила карьеру над семьей, а надо было сделать все наоборот. Ее трезвое клиническое мышление отвергало такую возможность. Это навязчивая идея, не более того. Но в глубине души она ощущала свою вину все сильнее и все страшней. Это уравнение с течением времени стало казаться ей единственно верным. Наказание за пренебрежение семьей.
Без двадцати пять она открыла дверь номера в отеле «Терминус» напротив Центрального вокзала. Номер был на пятом этаже. Оттуда открывался вид на железнодорожные пути, сразу за которыми маячил знаменитый силуэт стокгольмской ратуши, на озеро Меларен и мосты, названия которых она не знала. Давно надо было переехать в Стокгольм. Если я не найду сына, буду искать работу в Дандерюде или в Каролинске[47]… где меня никто не знает.
Она задернула шторы и прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Что за смысл в этих идиотских планах? Не стоит воображать, что она сможет продолжать жить. Не стоит воображать, что Кристина расскажет ей какую-то тайну, которая поможет ей найти Хенрика.
Не стоит вообще на что-то надеяться.
В мини-баре она нашла маленькую бутылочку виски. Лучше, чем ничего, решила она и открутила пробку.
Доза алкоголя, даже небольшая, придала ей решимости. Через двадцать минут она позвонила сестре. Рассказала, что уже несколько месяцев на больничном, что ей очень плохо. Кристина ничего этого не знала, и Эбба не стала распространяться — что ж тут удивительного в наших обстоятельствах, сказала она. Или какую-то банальность в том же духе. Объяснила, что по делам в Стокгольме. Не хочет ли Кристина с ней поговорить?
— О чем? — спросила Кристина.
— О Роберте и Хенрике.
— Зачем?
У Эббы перехватило дыхание, словно в гостиничном номере внезапно кончился кислород.
— Зачем?.. Затем, что ты много говорила с Хенриком в те дни, — выдавила она наконец. — У тебя всегда был с ним контакт. Я подумала… я подумала, может, он что-то тебе сказал…
Несколько секунд тягостного молчания.
— Нет… нет, он ничего такого не говорил. Если бы говорил, я бы давно рассказала. И тебе, и полиции — всем… что ты себе напридумывала? Но если хочешь, конечно, заходи завтра, выпьем чаю… поговорим. Между часом и тремя… устраивает? Ни мужа, ни Кельвина не будет дома… Но вряд ли стоит надеяться, что я чем-то могу тебе помочь.
Эбба горячо поблагодарила — излишне горячо, — но после холодного вопроса сестры «зачем?» она совсем было потеряла надежду, а сейчас возникло ощущение, как будто на нее снизошла благодать. Она посидела минут пять без движения. Потом включила телевизор, посмотрела новости и пошла в душ. Долго стояла под душем. Вышла и посмотрела на часы — половина десятого. Она погасила свет, забралась в постель и сделала пять глубоких вдохов. Она всегда так делала. Чтобы снять тревогу и привести в порядок мысли.
Но сон не шел. Вместо сна пришло воспоминание. Оно словно выкристаллизовалось из компактного мрака гостиничного номера и совсем уж непроглядного мрака в ее душе. Воспоминание утешения не принесло.
Лето… много лет назад. Хенрику двенадцать, Кристоферу семь. Она сняла виллу на Юланде на все лето. Вилла принадлежала одной из ее сотрудниц — та на все лето уехала в США и не хотела, чтобы дом пустовал. Лейф с мальчиками уехали, как только начались школьные каникулы, а у нее отпуск был со второй недели июля. Но она взяла в счет отпуска пять дней и поехала к семье на Иванов день.
Лейфу помогала Кристина. Не то чтобы Лейф нуждался в помощи. Нет, в помощи нуждалась скорее сама Кристина: у нее развалился очередной роман, и ей негде было жить — это было задолго до появления на горизонте Якоба Вильниуса.
Эбба проехала на машине чуть не полторы тысячи километров из Сундсваля, потом пересекла Скагеррак ночным паромом Варберг — Грено и добралась до места рано утром. Все еще спали, было только шесть утра. Большой дом, красиво расположенный в бесконечных песчаных дюнах Юланда. Она не сразу его нашла, хотя Лейф долго и подробно объяснял дорогу. Она прошла на цыпочках из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам и наконец обнаружила все семейство спящим в одной широченной постели под большим мансардным окном. Мальчики в середине, Лейф и Кристина по краям, и что-то в этой странной группе заставило ее сердце забиться быстрее. Все повернулись в одну сторону, как столовые ложки в кухонном ящике… она довольно долго наблюдала за спящими: Лейф в пижаме, ребятишки в шортиках, Кристина в трусах и майке, они все почему-то прикасались друг к другу во сне — но только чуть-чуть. Вся эта картина дышала таким спокойствием и гармонией, что у нее подкатил комок к горлу. Картина… вот именно картина — счастливая семейная идиллия.
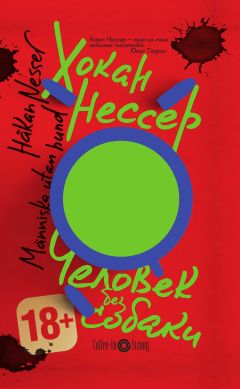

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

