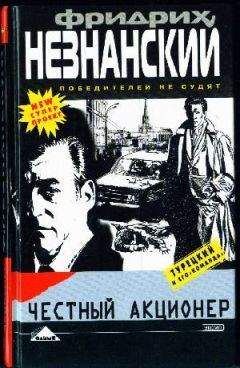Замок сухо щелкнул.
— Э, урод, ты че! — завопил бритый, пробираясь к двери. Под ноги ему попалась картонная коробка, он споткнулся об нее и тяжело повалился на пол, больно уткнувшись плечом в зубья валяющихся грабель. — А-а!
— Я не урод. Меня зовут Алексей, — услышал он голос по ту сторону двери. — А ты — полный придурок.
— Открой! — простонал бритый. — Кому сказал — открой!
— Перебьешься.
Бритый ощупал раненое плечо, ладонь его стала влажной от крови.
— Слышь, парень, не будь гадом, — плаксиво заговорил он. — Открой. Пожалуйста. Я ранен!
— Не могу, придурок. Я выкинул ключ в колодец. А замок крепкий, амбарный, его железкой не собьешь. Я скажу твоей жене, чтобы она поискала в сарае ножовку. А мне пора идти. Пока, придурок!
Бритый принялся вопить и выкрикивать ругательства, однако Алексей спокойно прошел через двор, быстро взбежал по ступенькам дома и вошел в комнату. Блондинка возилась возле стола. Услышав скрип двери, она обернулась.
— Ваш муж — в подсобке, — сказал ей Алексей. — Кажется, у него проблемы.
— Какие? — испуганно спросила блондинка.
— Об этом он вам сам скажет.
Блондинка кинулась к двери, но Алексей преградил ей путь.
— Мне нужны деньги, — сухо сказал он.
— Деньги? — удивленно воззрилась на него блондинка.
— Да. Рублей сто. — Алексей усмехнулся и добавил: — Мне кажется, я их честно заработал.
Блондинка сунула руку в карман куртки и достала кошелек. Молча протянула его Алексею. Он взял кошелек и вынул из него сторублевую купюру. Вернул кошелек блондинке, затем сгреб со стола кусок хлеба и сказал:
— Мне пора идти. Спасибо за заботу.
Повернулся и вышел из дома. Через десять минут он уже был на железнодорожной станции.
Лариса никогда не боялась темноты. Даже в детстве. Ей даже нравилась темнота. Бояться можно было диких зверей или бандитов. Но что плохого в темноте? Включишь свет — и она исчезнет, словно ее и не было. Снова увидишь свою комнату, веши, к которым глаза привыкли настолько, что уже не замечают их. Все станет обыденным и скучным. И только в темноте комната приобретала новые очертания, а вещи становились другими, потому что в темноте на них никто не смотрел и им незачем больше было притворяться. Темная комната становилась волшебной и таинственной. К тому же в темноте легче было мечтать. И Лариса мечтала, обняв руками подушку и глядя в зашторенное окно, которое, несмотря на ночь, было светлей всего остального.
Но все это было в детстве. Став взрослой, Лариса почти позабыла об этих своих ночных «мечтаниях», у нее просто не было больше времени на подобную ерунду. Учеба, работа, заботы об отце и брате — все это съедало не только дни Ларисы, но и ее ночи. Если она о чем-то и думала, лежа в постели, так только о своих дневных проблемах. Даже во сне она не переставала о них думать. Впрочем, сны Лариса видела крайне редко. Ночи ее были черными.
Последний допрос был похож на предыдущие. Следователь Турецкий задавал ей вопросы, раскладывал перед ней факты (как когда-то мама Ларисы раскладывала пасьянс на ночном столике), но она упорно отвечала на все отказом. Не видела, не знаю, не помню. Под конец допроса явно утомленный Турецкий вдруг улыбнулся ей совершенно отеческой улыбкой (у Ларисы даже дрогнуло сердце — так он стал похож на ее отца) и сказал:
— Вы правы, Лариса, вы не разбойник и не злодей. Вы просто немного заблудились. Заблудились в ночном лесу. Но вы не боитесь темноты, поэтому не зовете на помощь и не ждете помощи. Вам кажется, что тьма — такая же простая и естественная вещь, как и свет. Когда вы поймете, что это не так, может быть слишком поздно.
Ларису поразило, что Турецкий заговорил с ней о темноте. Она вспомнила маму, которая однажды сказала отцу:
— Наша дочка просто уникум. Соседские ребятишки рассказали, что вчера вечером она на спор спустилась в подвал. Одна! И гуляла по нему полчаса.
— Как ты осмелилась? — дрогнувшим голосом спросил Ларису отец. — Ты ведь могла переломать себе ноги! Ты о нас с мамой подумала?
— Я не уходила далеко, — соврала тогда Лариса. — К тому же я не боюсь темноты.
И сейчас она ответила так же:
— Вы правы, Александр Борисович, я не боюсь темноты. Но по возможности стараюсь ее избегать. Мне больше нравится свет. Так что вы можете за меня не волноваться.
В эту ночь — быть может, из-за слов Турецкого — она снова почувствовала себя ребенком. Она заложила руки за голову и, глядя в тусклое зарешеченное оконце, стала думать о своей жизни. Вернее — представлять, какой могла быть ее жизнь, если бы обстоятельства сложились иначе. Если бы они не посадили Храбровицкого. Если бы «Ассоциации ветеранов» не грозило разорение. Если бы ей не пришлось уговаривать своих друзей, своего отца и своего брата пойти на столь страшное, но столь необходимое дело.
Все было бы иначе. Они все были бы счастливы. Как ни думала Лариса, как ни поворачивала прошедшие события, стараясь осмыслить их со всех сторон, все равно получалось, что во всём были виноваты власти. И в частности — эти трое, которые сидели в «Волге» и которых Геннадий отправил на тот свет. Они сами убили себя. Убили своей подлостью, своей продажностью, своим желанием во что бы то ни стало удержаться в креслах и угодить Кремлю. А раз так, значит, и жалеть их не стоит. Ведь даже церковь не хоронит самоубийц на освященной земле.
С этими мыслями Лариса и уснула.
Среди ночи она вдруг проснулась. Проснулась, явно ощутив чье-то близкое присутствие. Открыв глаза, она увидела темный, сгорбленный силуэт человека, который сидел у нее в ногах, на краю койки. Человек молча смотрел на нее. В полумраке камеры мерцали белки его глаз, но черт лица было не разобрать. Внутри Ларисы все похолодело, волосам стало жарко, и они зашевелились у нее на голове. Однако Лариса сумела взять себя в руки.
— Кто ты? — срывающимся голосом спросила она.
— Я? — Он усмехнулся, тускло блеснув зубами. — Сестренка, неужели ты не узнаешь меня?
— Гена? — хрипло прошептала Лариса.
Он кивнул:
— Да, я. Я пришел проститься, сестренка.
«Проститься?» Лариса приподнялась на кровати.
Теперь она узнала его. Лицо брата было бледным и осунувшимся. Глаза запали, под ними пролегли глубокие тени.
— Но ведь ты… умер, — неуверенно проговорила Лариса.
Геннадий печально вздохнул:
— Ты права, сестренка. Теперь я мертв. — Он горько усмехнулся. — Зато я убил троих. Ты помнишь об этом?
— Да, я помню.
— Хорошо… Потому что ты должна помнить… Всегда. Эти трое тоже здесь. Хочешь на них посмотреть?
— Нет! — вскрикнула Лариса, но было поздно. От противоположной стены отделились три черные тени и стали медленно наплывать на Ларису.
Брат молчал. Наконец тени остановились возле кровати. Они были черные, безликие. Но Ларисе вдруг показалось, что она чует сладковатый запах крови. Молчание стало невыносимо.
— Это… они? — спросила Лариса, чтобы хоть что-то сказать, хоть каким-то звуком нарушить эту тягостную тишину.
Геннадий кивнул:
— Да. Хочешь с ними поговорить?
— А я должна? — тихо спросила Лариса, понимая, что спорить бесполезно.
Он покачал головой:
— Нет.
— Тогда я не буду, ладно?
— Как хочешь.
Некоторое время они молчали. Затем Геннадий хрипло рассмеялся. От его смеха у Ларисы упало сердце.
— Почему ты смеешься? — спросила она.
Геннадий кивнул в сторону трех теней:
— А разве не смешно? Я убил их! Убил, как ты велела. Я не хотел, но ты настояла, помнишь? Я спорил с тобой. Но теперь я больше никогда не буду с тобой спорить. Ведь я уже мертв. — Лицо Геннадия придвинулось еще ближе. На этот раз Лариса четко, во всех деталях разглядела его лицо, и лицо это было отталкивающе страшным. — А знаешь, кто убил меня? — хрипло спросил Геннадий.
— Кто? — прошелестела одними губами Ларисы.
Он поднял руку и показал на нее черным указательным пальцем:
— Ты!
Три черные тени, словно услышав приказ, бросились на Ларису, вцепившись ей в шею, лицо и грудь холодными, скользкими пальцами. Лариса вскрикнула от ужаса и проснулась.
Последние дни принесли столько хлопот и проблем, что Александр Борисович бы рад, что жены и дочери нет дома. Он приходил домой поздно вечером, жарил себе яичницу или варил пельмени и, едва поев, заваливался спать. Однако долго не мог уснуть и иногда ворочался на простыне вплоть до самого утра.
Напряженный график работы и бессонница сказывался на самочувствии. Выпив утром пару чашек черного кофе, Турецкий выезжал на работу, но даже крепкий кофе больше на давал ему ощущения бодрости и свежести. Александр Борисович чувствовал себя измотанным и усталым. Порой он с тревогой думал о том, что во всем виноват возраст. Молодость ушла, и сознавать это было тягостно и тревожно.