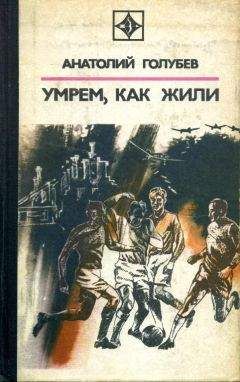Он промолчал.
— Я узнал одну мелочь: Караваев не был расстрелян на Коломенском кладбище…
Сизов скривил губы в презрительной усмешке точь-в-точь какую носила Секлетея Тимофеевна.
— И что следует из этой выдумки?
— Ничего. Кроме того, что вы, Алексей Никанорович, отлично знаете, что Караваев не был расстрелян.
— Допустим, — он уже пришел в себя.
Вошла Мария с полной кошелкой.
— Готовь на троих, Машенька! У нас гость, дорогой гость.
Когда Мария выкатилась из комнаты, столь тихо и быстро, что я толком не успел ее рассмотреть, Сизов сказал уже глуше:
— Допустим…
— Почему вы не сообщили об этом на допросе в управлении госбезопасности?
— Меня не спрашивали. К тому же я мог ошибиться. И тогда…
— И тогда?!
— Вы очень напоминаете мне Головина. Был у нас такой следователь. Исключительно молодой и горячий. Все понимавший с полуслова.
— Я учту ваше замечание, Алексей Никанорович, но пока ответьте, если можете, на один вопрос: организацию предал Караваев?
Мне показалось, что вздох облегчения, такой внутренний, скрытый, Сизов подавить не мог.
— Не располагаю никакими данными, кроме тех, что изложил, — сухо отрезал Сизов. — Надеюсь, у вас есть еще что-либо рассказать мне?
— Есть. Вы помните Данцера?
— Еще бы! Немец, заменивший расстрелянного Морозова. Мой начальник на электростанции, арестовавший меня.
— Он жив.
— Очень жаль.
— И он рассказал многое, что знали лишь Моль, Гельд, Караваев и… — я сделал умышленную паузу.
Даже пятилетнему мальчишке было понятно, как мучительно ждал своей фамилии Сизов. И это меня очень огорчило. Я вдруг заколебался в версии с Караваевым, и стрелка подозрения стала клониться в сторону Сизова.
Алексей Никанорович вновь взял себя в руки. Чувствовалось, что на этот раз спокойствие его искреннее.
Пришла Мария и пригласила на кухню завтракать. Пили чай с колбасой и закусывали крупными поздними помидорами, в которых почти не было жидкости, лишь сахаристая розовая мякоть.
— У меня работа с одиннадцати, а Марии нужно уходить, — сказал Сизов, наливая себе новую чашку чаю. — К ней у вас вопросов нет? — Сизов разговаривал так, будто за нашим столом сидела кукла, собственность Сизова, которой он распоряжался по своему усмотрению.
«Странная метаморфоза, — думал я, — по всему казалось, что Мария не из робкого десятка, а так подчинилась, что и смотреть противно!»
Мария была молчалива и совершенно равнодушна ко всему происходившему. На небольшом, лисьем личике тусклыми пятнами темнели глаза. Седеющие волосы были зализаны назад, волосок к волоску, и стянуты на затылке в жидкий узел, из которого крысиным хвостом торчал кончик косы.
Я покачал головой. Мария, словно только и ждала моего жеста, молча встала и, не прощаясь, вышла.
Мы вновь остались одни.
— Что будете делать с Караваевым, коль, допустим, найдете?! — спросил Сизов.
И тут я растерялся. А действительно, что я буду с ним делать? То ли, как предателя, передать — легко сказать «передать» — в руки соответствующих органов, то ли самому допросить? Ясно было одно — если он и впрямь виновен в провале организации, вряд ли станет беседовать со мной столь же спокойно Алексей Никанорович. Неужели все, что знает Караваев, нисколько не может повредить ему, Сизову?
— Мне надо с ним поговорить, — не очень уверенно сказал я, отхлебывая горячий чай, который снова налил Сизов, как бы предлагая продолжить беседу.
— Благоразумное решение. Вы всегда уверены, что и с вами хотят разговаривать?
— Не всегда. В частности, не предполагал, что наша беседа будет такой искренней и содержательной.
— Комплимент за комплимент. Исключительно из вежливости, — Суслик облизал губы. — Не ожидал от вас такой бульдожьей хватки! Думал, молодой, увлекающийся — наскоком налетит, зубки обломает, да и скроется…
Сизов долго молчал, потом внезапно, будто выстрелил, произнес:
— Увидеть Караваева можно. Он работает на стадионе «Трактор» тренером по стендовой стрельбе. Известный в Липецке охотник. Фамилия его нынче Торопов, а зовут также, Владимиром Алексеевичем. В двенадцать на стенде у него стрельбы. — Сизов взглянул на часы и облизнул губы. Он не мог не понимать, что совершает предательство по отношению к Караваеву, предательство, невесть какими последствиями тому грозящее, но даже искры раскаяния или сожаления не мелькнуло в его маленьких, смотрящих мимо собеседника глазках.
Сизов снова облизнул губы. И теперь он напоминал мне уже не Суслика, а скорее варана, выбрасывающего перед собой раздвоенный язык.
Верить или не верить?
«Пок! Пок!»
Словно готовились к большому застолью, хлопали пробки выстрелов за белой стеной, отделявшей стадион от опушки засаженного ровными рядами ельника.
Я прошел на стенд. Был он небольшим. Две покосившиеся хибарки из плохо очищенных досок, сквозь которые просматривались и пусковые механизмы, и люди, выплевывавшие с их помощью тарелочки. Я подошел к двум парням в тренировочных костюмах, следившим за тем, как стреляет на круглом стенде пожилой, явно пенсионного возраста человек. Не скрою, подумалось, что, судя по тому, как с завидным постоянством после выстрела вспыхивает на том месте, где находилась тарелочка, черное облачко дыма, стреляет сам Караваев.
— Торопов? — переспросил парень, оглядев меня изучающим взглядом. — Записаться, что ли? Так вон он идет.
От небольшого домика с выцветшим голубоватым плакатом на стене, изображавшим стрелка, шел человек неопределенных лет. Шел, тяжело раскачивая руками и согнувшись, будто нес тяжелый горб или неведомая болезнь скрутила его. Пышная окладистая борода с редкой проседью в золотистых волосах делала Караваева похожим на святого или мученика.
Я шагнул ему навстречу, не в силах сдержать волнения.
— Вы Торопов?
— Допустим, — совсем как Суслик сказал он. И посмотрел на меня снизу вверх — видно, головы поднять не мог, но смотрел пронзительно, оценивающе.
— Я из Москвы. Мне рекомендовали обратиться к вам. Хотелось написать о секции рабочих стрелков. Для спортивной газеты.
— Ничего не получится, — сказал он, стоя передо мной с широко разведенными руками, как делают штангисты, которым мешают мышцы спины опустить их вдоль туловища. — Не получится. Я не люблю вашего брата писателя. И популярности не жажду. Мне хватает удовлетворения в работе.
Он прошел мимо, но Караваев-Торопов не знал, каким настырным бываю я, когда хочу.
— Я буду писать о ребятах, с которыми вы занимаетесь. К вам у меня лишь несколько общих вопросов.
Караваев остановился, будто прислушиваясь к самому себе, и непонятно почему быстро согласился.
— Хорошо. Приходите в пять. У меня кончаются тренировки, и вы не будете мешать. А сейчас уходите.
Он что-то громко крикнул стрелявшему на стенде, и стрелок, переломив ружье и небрежно повесив его на плечо, пошел к Караваеву, но тот опять что-то крикнул, и человек, послушно вернувшись, начал собирать стреляные гильзы.
— Торопов порядок любит, — сказал стоявший рядом парень, указывая на тренера. — Аккуратный человек.
В пять, когда я пришел на место назначенного свидания, сотни раз мысленно проговорив все, что хотел спросить у Караваева-Торопова, знаменитый тренер не явился. Я прождал его больше полутора часов, но безрезультатно. Бросившись в Горсправку, узнал адрес и пришел домой.
Однокомнатная квартира в длинном, желтом, барачного типа сооружении была заперта на три видимых замка. И я не смог достучаться.
Вышла соседка.
— Чего гремите? Уехал он часа три назад. За ним заехали товарищи, и они уехали. Наверно, на охоту. Теперь в понедельник, раньше не будет.
Ждать было бессмысленно, надо было подключать Дмитрия Алексеевича. И хотя практически я не узнал ничего нового, меня распирало от самодовольства, что нашел удачный ход и не ошибся в расчете.
Первый допрос для Кармина был самым тяжелым. Потом обвыкся. Допрос походил на допрос, с теми же побоями, попытками отмолчаться, с очными ставками, опознаниями людей, которых он знал многие годы и должен был делать вид, что не знает, с молниеносными решениями, что можно говорить и что нельзя.
Черный кабель Моля, свистевший в воздухе, и парабеллум Гельда, зверевшего от допроса к допросу, уже казались обычными канцелярскими принадлежностями.
…Двое суток Кармин лежал в камере. Хотелось есть, но кормили плохо. Кидали в комнату бачок с бурдой, и Бонифаций, взявший распределение питания в свои руки, аккуратно разливал тепловатую жидкость по алюминиевым мискам. Мучило неведение: что знают об организации?! Казалось, что для начала о Кармине забыли. Пожалуй, уже вся камера перебывала на допросах — его не трогали. Карно вернулся с допроса повеселевший, рассказывал многое иносказательно, но дал понять, что у него сложилось впечатление, будто знают они куда меньше, чем можно было ожидать. Как-то, очнувшись ночью, — нестерпимо затекла спина и болела шея от неудобного положения, в котором он спал, — Кармин долго сидел, уставившись открытыми глазами в темноту камеры.