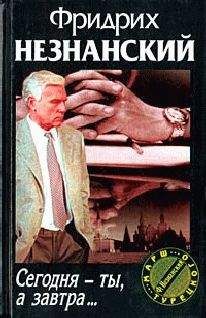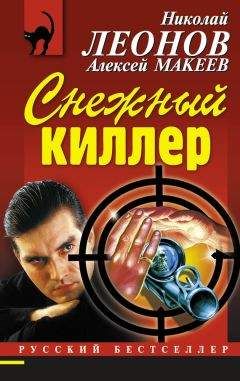Ознакомительная версия.
Но ничего не поделаешь. Ревматизм есть ревматизм. И даже здесь, в жарком Нью-Йорке, Беляк то и дело чувствовал невыносимую боль где-то в глубине костей и суставов. Напоминал о себе проклятый ревматизм и будет, видимо, напоминать до конца дней. Да, эти четыре года в сырой, болотистой и холодной Республике Коми он запомнит навсегда…
Если до того момента, как Беляк собрался воровать с завода «Квант», где он работал, серебросодержащие контакты, он не сошелся бы с калининградскими блатными, ему вряд ли бы поздоровилось. Лагерь общего режима находился на болотистых берегах гадкой речки Вымь, где, казалось, жить просто невозможно. Даже далеко от реки, стоило наступить тяжелым арестантским ботинком, в продавленный подошвой след тотчас же набиралась мутная вода. Мшистые поляны могли оказаться непроходимой топью, а даже маленькая ранка не заживала месяцами, гноилась и превращалась в страшную язву. Сырость проникала в суставы, которые немедленно начинали болеть. В общем, местечко, куда отправили Беляка, оказалось гиблым. Единственное облегчение: он сумел, пользуясь калининградскими знакомствами, сойтись с местными блатными, которые взяли его под свое крыло. Так что тяжелые работы на лесоповале Беляку не грозили.
Возможно, он бы уже давным-давно забыл и холодные сырые бараки, и далекие лесные делянки, становившиеся все дальше и дальше от лагеря по мере вырубки леса. Там, еле передвигая ноги, грязные, оборванные зеки, с трудом ворочающие бензопилами «Дружба» и простыми топорами, под неусыпным контролем надсмотрщиков долбили, пилили, валили вековые деревья. И конца этому не было.
Сам Беляк, конечно, никогда в жизни бы не прикоснулся к топору или бензопиле даже под страхом смерти, ведь чтящему воровской закон уркагану, каковым он теперь являлся, работать не полагалось. Но администрация лагеря строго следила за тем, чтобы все без исключения заключенные рано утром отправлялись по делянкам. Там-то Беляк, лежа на сырой земле и играя с блатными в «буру» и «секу», и заработал свой ревматизм.
Однако не только ревматизм остался неизгладимым воспоминанием о тех четырех годах.
Тело Беляка было с головы до ног покрыто татуировками. На уголовной фене это называлось «весь расписной». Каждый год добавлял ему новые «знаки отличия». Татуировки синели на его теле и смотрелись диковато здесь, в благополучной Америке.
Вот на его руке полустершаяся сакраментальная фраза «Не забуду мать родную». Повыше, на предплечье, крупными буквами было написано «Беляк». Там, в лагере, его фамилия сразу превратилась в кличку. Среди всевозможных церквей, распятий, русалок и обвитых змеями кинжалов, выделялось короткое слово «Вымь» – вечное воспоминание о гиблой реке с болотистыми берегами.
Даже на ступнях имелась надпись – «Жена вымой – теща вытри», что, впрочем, носило совершенно абстрактный характер – ни жены, ни тем более тещи у Беляка никогда не было.
Грудь Евсея украшала большая наколка в виде парусника с раздувшимися парусами, который по бурному морю несся к неведомой стороне. На палубе стоял сильно напоминающий самого Беляка принц Гамлет, в берете и при шпаге (чтобы не возникало разночтений, на головном уборе у принца имелась соответствующая надпись). Гамлет – Беляк смотрел в туманную даль. На длинном, развевающемся вымпеле значилось:
По родной сторонке не заплачу,
Не пролью по матери слезу,
Еду я искать свою удачу,
На чужбине щастие найду.
Лирическая надпись, сделанная во время второй отсидки, оказалась пророческой. В семьдесят пятом году, спасаясь от очередного ареста за валютные махинации, Беляк за большие деньги добыл израильский вызов, по которому уехал, естественно, не в землю обетованную, а в Соединенные Штаты Америки.
Разумеется, валюта, которой последние несколько лет занимался Беляк, эти драгоценные, добываемые с таким трудом зеленые бумажки, были здесь самыми обыкновенными деньгами. Беляк первое время даже пытался по привычке прятать свои эмигрантские доллары за резинку носков при виде полицейского. Потом привык…
Конечно, он сразу же понял, что жить на жалкие крохи пособия он не будет. Работать где-нибудь на свалке или бензоколонке тоже не хотелось. В Союзе Беляк жил хорошо на доходы от валютных операций, и становиться на путь «честного труженика» не хотел. Нужна была новая идея.
И вскоре Беляк понял, что раз здесь, в Нью-Йорке, на Брайтоне, большая русская, вернее, русскоговорящая колония, то обязательно должны быть люди, уехавшие по сходным с его, Беляка, обстоятельствам. Короче говоря, «коллеги». И их нужно обязательно найти.
Это оказалось не проблемой. Беляк разузнал, где находится самое злачное место на Брайтоне, бар, где собираются местные бандиты. И отправился прямиком туда.
В прокуренном помещении пахло водкой, пивом, воблой, солеными огурцами и чем-то невыразимо родным. На небольшой эстраде пел приблатненный человек с большими усами. На столах знакомыми силуэтами возвышались бутылки «Русской», «Столичной» и «Лимонной». Впрочем, те, кто победнее, пили «Смирнофф». Слышалась русская речь, и Беляку показалось, что ни в какую Америку он не уезжал, а так и сидит в Калининграде и ожидает прихода милиции.
Впрочем, о том, что он на самом деле в Америке, сразу напомнили две темные личности, отделившиеся от стены и подошедшие к Евсею.
– Ху ар ю? – спросил один из них с тамбовско-вологодским прононсом.
– Вот ю дуинг хия? – задал вопрос второй.
Беляк внимательно посмотрел на них. Рожи подошедших не предвещали ничего хорошего. К тому же, судя по вопросам, вход посторонним сюда был заказан.
– Я свой, ребята. Приехал недавно из Калининграда.
– Свой, говоришь, – осклабился первый, – видим, что русский, не слепые. Только вот, знаешь, в баре свободных мест нету. Так что иди-ка, красавчик, подобру-поздорову, пока тебя обратно в Калининград не отправили.
Среди многочисленных талантов, полученных Беляком на зонах, было умение общаться с «шестерками», которыми, без всякого сомнения, являлись подошедшие.
– Что-то, ребята, я у дверей очереди не заметил, – сказал Беляк, почесав нос и одновременно как бы ненароком продемонстрировав татуировки на правой руке – восходящее солнце, надпись «Беляк», и «кольца», то есть наколки в виде перстней. «Знаки отличия» произвели впечатление на подошедших, и минуту спустя Беляк сидел за залитым пивом столом, шлепал по столу воблой (и где только они ее добывали, у американцев обычай русских есть соленую и высушенную рыбу вызывал только ужас и тошноту), прихлебывал из большой кружки, точь-в-точь такой же, как в московских пивных, и разглядывал окружающую публику.
Надо сказать, местная блатата состояла из птиц невысокого полета. Брайтон, хоть и отвоеванный уже у проживающего здесь раньше черного населения, еще не обрел своих настоящих хозяев.
Много позже Беляк познакомился с первыми из тех, кто поселился здесь, которые прекрасно помнили заброшенные трущобы с выбитыми оконными стеклами, огромные груды мусора на тротуарах, местную негритянскую шпану, обшарпанные дома с зигзагами пересекающих фасады пожарных лестниц, с бельевыми веревками от стены к стене, на которых сушилось застиранное шмотье местных обитателей. Помнили старожилы и ту жестокую, временами переходящую в большие потасовки войну, в которой безоговорочно победили наши. Воевали велосипедными цепями, кусками арматуры, заточками. Черные, убоявшись беспримерной наглости «русских», убрались отсюда. И теперь редко когда встретишь здесь афроамериканца, как в последнее время, повинуясь модной политической корректности, стали их называть повсеместно. Кроме, пожалуй, того же Брайтона. Не любят здесь «этих американских штучек». Здесь живут по своим законам, мало обращая внимание на белозубую, улыбающуюся по поводу и без повода, жующую свои гамбургеры и хот-доги Америку. Это свойство всех «наших» – привозить с собой обычаи и, не спрашивая ни у кого разрешения, насаждать их на новой родине.
Конечно, уголовного элемента было на Брайтоне немало. Но все эти люди пока что присматривались, взвешивали, оценивали силу и решительность друг друга. Явных лидеров еще не было.
И Евсей Беляк, поглядывая на всю эту шушеру, решил, что ничто не мешает ему прибрать к рукам то, что плохо лежит, но хорошо пахнет. И он решил начать действовать. Прямо со следующего утра.
Когда он на следующий день пришел в бар пораньше, два вчерашних цыпленка, как в уголовной среде называют начинающего вора, были на месте. Они посмотрели на Евсея особым взглядом, который он не раз видел за свою жизнь. «Пахан пришел», – читалось на лицах. Беляк быстро договорился с ними. Хануриков звали Жека и Воха. Они моментально согласились работать вместе с Беляком. Кому как не Евсею было известно, что «шестерки» по жизни чувствуют себя очень неуютно без пахана, а обретя наконец последнего, блаженствуют, как наркоманы, приняв очередную дозу.
Ознакомительная версия.