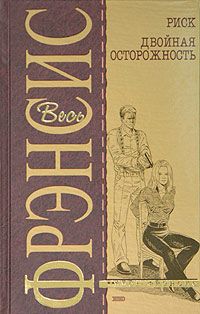Удивительно, как быстро исцеляется тело! С меня сняли трубки; я начал поворачиваться на бок; вставать на ноги; ходить — и все это за неделю. Конечно, я передвигался еще с трудом, и рана побаливала, но я явно ожил. Анджело, похоже, тоже становилось лучше. Он потихоньку выкарабкивался из бездны. Он открывал невидящие глаза, реагировал на внешние раздражители.
Я слышал об этом от сиделок, от уборщиц, от сестры, которая делала уколы. И все они с любопытством смотрели на меня, выжидая, как я к этому отнесусь. Первой пикантность ситуации отметила местная газетка, потом история попала в центральные газеты, и констебли, которые дежурили у постели Анджело, постепенно сделались разговорчивее.
От одного из них я узнал, что Анджело потерял контроль над машиной на развороте и что целая толпа людей, ожидавших на остановке, видела, как он врезался в автобус, словно не мог повернуть баранку, что в любом случае он ехал слишком быстро и что люди видели, как он поначалу смеялся.
Слышавший все это Банан решительно сказал:
— Он разбился потому, что ты сломал ему запястье.
— Да.
Он глубоко вздохнул.
— Наверно, полиции следует это знать...
— Я тоже так думаю.
— Они тебя не тревожили?
Я покачал головой.
— Я сам рассказал им все как было. Они все записали. Никто ничего не сказал.
— Они забрали пистолет, — Банан улыбнулся. — Пакет был бумажный.
Через двенадцать дней я выписался из больницы. Я медленно прошел мимо двери палаты Анджело, но внутрь заходить не стал, хотя и знал, что сознание вернулось к нему еще не полностью и он даже не заметит, что я здесь. Несчастья, которые он причинил мне и Касси, быть может, и миновали, но шрамы на моем теле были еще слишком свежи, чтобы я мог забыть о них.
Да, я его ненавидел. И, возможно, боялся. И уж конечно, мне не хотелось видеть его, ни сейчас, ни впредь.
В следующие три недели я бродил по дому, занимался бумажной работой, с каждым днем чувствовал себя все лучше, так что мне удалось убедить Банана отвезти меня на тренинг — самому мне водить машину пока не доверяли. Касси вернулась на работу. Сломанная рука стала воспоминанием. Кровь с ковра в гостиной почти отмыли, бейсбольную биту убрали в чулан. Короче, жизнь более или менее вернулась в нормальную колею.
Из Калифорнии приехал Люк, посмотрел жеребят, познакомился с Касси, выслушал Сима, Морта и двух беркширских тренеров, навестил Уоррингтона Марша и улетел в Ирландию. Он, а не я приобрел в Боллсбридже Оксидайза и отправил жеребчика Донавану, чем до некоторой степени загладил раны, нанесенные самолюбию ирландца.
Перед тем как вернуться домой, он еще раз ненадолго заехал в Ньюмаркет, пришел ко мне домой, выпить рюмочку виски перед обедом.
— Ваш год почти кончился, — заметил он.
— Да.
— Понравилось?
— Очень.
— Еще хотите?
Я поднял голову. Целую минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.
Ни он, ни я не сказал, что Уоррингтон Марш уже никогда не оправится настолько, чтобы вернуться к прежней работе. Дело было не в этом. Постоянная работа... рабство...
— Еще на год, — сказал Люк. — Не навсегда.
И снова наступило молчание. Наконец я сказал:
— Хорошо. Еще год.
Он кивнул, допил свое виски. Мне показалось, что про себя он улыбается. У меня было предчувствие, что через год он снова явится и предложит то же самое. Еще один год. Каждый год — новый контракт. Дверца клетки будет открыта, но птичка никуда не денется. «Ну что ж, — подумал я, — останусь пока, а там видно будет...»
Когда Касси вернулась домой, она была очень довольна.
— Морт ему сказал, что будет в отчаянии, если ты уйдешь.
— В самом деле?
— Ты ему нравишься.
— А Донавану не нравлюсь, — сказал я.
— Ну, на всех не угодишь! — сказала Касси. Да, это верно. И без того все было прекрасно. Но тут позвонили из полиции и попросили меня встретиться с Анджело.
— Нет, — ответил я.
— Это естественная реакция психики, — спокойно сказал мой собеседник. — Но я все же хотел бы, чтобы вы выслушали.
Он долго уговаривал меня, мягко опровергая все мои возражения, и в конце концов я неохотно согласился.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Значит, в среду после обеда.
— Через два дня?!
— Мы пришлем за вами машину. Вы ведь, наверно, еще не можете ездить сами?
Я не стал возражать. Я мог водить машину на небольшое расстояние, но быстро уставал. Врачи утешали меня, что через месяц я уже буду бегать.
— Заранее спасибо, — сказал мой собеседник.
— Пожалуйста...
Вечером я рассказал об этом Касси и Банану.
— Ужас какой! — сказала Касси. — Это уж слишком!
Мы ужинали втроем в ресторане. Кроме нас, в зале больше никого не было: по понедельникам ресторан не работал — «старая корова» вытребовала себе выходной Банан приготовил ужин сам: рыбное суфле со специями, цукатами и орешками — он решил опробовать его на нас с Касси. Как всегда, вышло нечто невероятное: неведомый язык, новые горизонты вкуса.
— Мог бы сказать, что не приедешь, и все, — сказал Банан, накладывая себе суфле.
— На каком основании?
— Из чистого эгоизма, — сказала Касси. — Самая лучшая причина, чтобы не делать того, чего не хочется.
— Мне даже в голову не пришло...
— Надеюсь, ты настоял на пуленепробиваемом жилете, шестидюймовом защитном стекле и нескольких рядах колючей проволоки? — поинтересовался Банан.
— Они заверили меня, — мягко ответил я, — что вцепиться мне в глотку ему не дадут.
— Как любезно с их стороны! — проворчала Касси. Мы полили суфле изысканным соусом Банана и сказали, что, когда нас выселят из дома, мы поселимся у него в саду.
— И будете играть? — спросил он.
— В смысле?
— Ну, по той системе.
Я равнодушно подумал, что и в самом деле совсем забыл про кассеты, а ведь они у меня. Так что возможность есть...
— Компьютера нету, — сказал я.
— Ничего, на компьютер накопим, — сказала Касси. Мы переглянулись.
Нас всех вполне устраивало наше нынешнее дело и материальное положение тоже. Неужели человек не может не стремиться к большему? Видимо, не может.
— Ты будешь работать на компьютере, — сказал Банан, а я — делать ставки. Время от времени. Когда будет туго с деньгами.
— Пока не подавимся.
— Ты знаешь, — сказала Касси, — я не мечтаю ни о бриллиантах, ни о мехах, ни о яхте. Но... когда у нас в гостиной будет бассейн?
Не знаю, что там наговорил Люк моему брату, вернувшись домой в Калифорнию, но Джонатан позвонил в тот же вечер и сказал, что утром в среду будет в Хитроу.
— А как же твои студенты?
— К черту студентов. У меня ларингит, — сказал он совершенно здоровым голосом. — До встречи.
Он приехал на такси, весь бронзовый от солнца и ужасно встревоженный.
То, что к тому времени я чувствовал себя уже вполне прилично, его не успокоило.
— Живой я, живой! — говорил я. — Не все сразу. Приезжай через месяц.
— Так что, собственно, с тобой случилось?
— Со мной случился Анджело.
— А мне почему не сказал? — осведомился он.
— Ну, если бы меня убили, я бы тебе доложил. Не я, так кто-нибудь другой.
Он уселся в одну из качалок и мрачно уставился на меня.
— Это все из-за меня! — сказал он.
— В самом деле? — насмешливо спросил я.
— Потому ты мне ничего и не сказал.
— Когда-нибудь я тебе все рассказал бы.
— Рассказывай сейчас.
Однако я прежде всего рассказал ему о том, куда я еду после обеда и почему, и Джонатан своим спокойным и решительным тоном объявил, что едет со мной. Я так и подумал. И был рад этому. За следующие несколько часов я рассказал ему почти обо всем, что было между Анджело и мной, так же, как он рассказывал мне тогда, в Корнуолле.
— Извини, — сказал он наконец.
— Не за что.
— Ты воспользуешься этой системой?
Я кивнул.
— И, может быть, скоро.
— Наверно, старая миссис О'Рорке была бы рада. Она гордилась изобретением Лайэма и не хотела, чтобы оно пропало.
Он поразмыслил, потом спросил:
— А какой был пистолет, ты не помнишь?
— По-моему... полицейские говорили... «Вальтер» 0,22.
Он слабо улыбнулся.
— Все повторяется! Оно и к лучшему. Если бы это было что-нибудь калибра 0,38, тебе пришлось бы худо.
— Да, пожалуй, — сухо сказал я.
За нами прислали машину, как и грозились, и отвезли нас в большое здание в Бэкингемшире. Я так и не понял, что это было: нечто среднее между больницей и казенным зданием — длинные широкие коридоры, запертые двери и мертвая тишина.
— Сюда, — сказали нам. — До конца, последняя дверь направо.
Мы не спеша шагали по паркетному полу. Стук наших каблуков только подчеркивал тишину. В дальнем конце было высокое, от пола до потолка, окно, которое почему-то давало очень мало света; и на фоне окна вырисовывались две фигуры: человек в инвалидной коляске и другой, который вез эту коляску.
Эти двое и мы с Джонатаном встретились посреди коридора, и, когда мы подошли ближе, я с неприятным удивлением обнаружил, что человек в коляске — не кто иной, как Гарри Гилберт. Старый, седой, сгорбленный, больной Гарри Гилберт, который тем не менее по-прежнему сознательно отвергал сострадание.