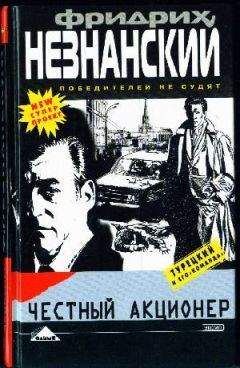Русские богачи покупают русских художников. Плохо это или хорошо? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны…»
Турецкий отложил газету и устало потер глаза.
— Ну как? — лукаво блеснул глазками журналист. — Уяснили себе, сколько может стоить коллекция Бориса Берлина?
— Уяснил.
Комаров кивнул:
— В таком случае, Александр Борисович, мне больше нечего вам сказать. Помяните мое слово: Кремль сделает все, чтобы коллекция осталась в России.
— Вы думаете?
— Я в этом уверен! На мой взгляд, Борис Берлин поступил крайне глупо, во всеуслышание объявив о своем отъезде в Израиль. Глупо и недальновидно! Вероятно, освобождение из-под стражи здорово вскружило ему голову.
— Вероятно, — согласился Турецкий, возвращая вырезку Комарову.
Журналист запихал вырезку в портфель и снова потянулся за графином.
— Выпьете на посошок, Александр Борисович?
Турецкий покачал головой:
— Спасибо, не хочу.
— Ну как знаете. А я, грешным делом, выпью. Ваше здоровье!
В тот момент, когда журналист Комаров провозгласил тост за здоровье следователя Генпрокуратуры Александра Борисовича Турецкого, на другом конце города Борис Григорьевич Берлин встал из-за уставленного изысканными и дорогими яствами стола, обвел друзей ласковым, немного хмельным взглядом, поднял бокал с красным вином и сказал:
— Друзья мои! Признаюсь вам, тюрьма была для меня очень тяжелым испытанием. Да… И главная проблема заключалась не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы даже в таких мерзких условиях остаться нормальным человеком.
Берлин выдержал паузу и продолжил:
— Не стану кривить душой. Все это время меня поддерживала мысль, что когда-нибудь я снова увижу всех вас и, что бы ни случилось, вы не отвернетесь от меня.
Мужчины сурово закивали. Женщины, расчувствовавшись, зашмыгали носами. Берлин повысил голос:
— Мысленно я уже видел себя где-нибудь на заснеженном поле под Магаданом! К счастью, мои мрачные опасения не подтвердились.
— Молодец! Ты выдержал! Мы в тебя верили! — раздались поощрительные оклики со всех сторон стола.
Борис Григорьевич поднял руку, и возгласы утихли.
— И вот, — продолжил Берлин, — я стою перед вами, и я — свободный человек. Когда я узнал, что меня освобождают, я поначалу не поверил. Подумал, что это какой-то прокурорский фокус. Я даже подумал, что они специально хотят, чтобы я расслабился, чтобы потом ударить меня побольнее. Но, к счастью, я ошибся и на этот раз.
Сидящие за столом люди ободряюще заулыбались Берлину. Он улыбнулся в ответ:
— Да, друзья мои, я ошибся. Я был прав в своих подозрениях насчет порочности нашей судебной системы. Но я упустил из виду одно. Знаете что?
Борис Григорьевич посмотрел на гостей торжественным взглядом и сам ответил на свой вопрос:
— Я упустил из виду, что даже в этой варварской системе встречаются люди, которые не боятся пойти наперекор своим начальникам в стремлении добиться истины!
Судя по тому, что некоторые из дам незаметно поставили бокалы на стол, а некоторые из мужчин нетерпеливо заерзали на своих стульях, вдыхая трепещущими ноздрями запахи угощений, гости начали уставать от долгой речи Бориса Григорьевича. Однако сам он этого не замечал. Было видно, что Берлин искренне растроган. Он поднял бокал повыше:
— Друзья мои! Мы уже выпили за меня. А теперь я хочу выпить за одного человека. Хотя… — Берлин задумчиво качнул головой. — Почему же за одного? Над этим делом трудились несколько человек. И все-таки главным во всем этом деле был один. Итак, я хочу поднять этот бокал за единственного честного, мужественного и неподкупного следователя во всей России. Имя его — Александр Борисович Турецкий! Благодаря этому человеку я не загремел по этапу, как декабристы или Радищев, а вернулся к вам! Вернулся в полном здравии и в отличном настроении. Выпьем за него! До дна!
— За Турецкого!
— За «важняка»!
— За честных ищеек!
Раздался звон бокалов, и гости немедленно отдали Турецкому должное обильными возлияниями. Меньше чем через минуту они забыли о его существовании и переключили свое внимание на угощения, которыми был уставлен праздничный стол.
Однако сам Берлин о Турецком не забыл.
— Прошу прощения, — извинился он перед гостями, выбрался из-за стола и вышел коридор.
С минуту он искал в памяти мобильника номер Турецкого, наконец нашел, нажал на кнопку вызова и приложил трубку к уху.
— Да, — рявкнул с того конца Турецкий.
— Александр Борисович, здравствуйте! Это Борис Берлин!
— Я понял.
— Александр Борисович, я звоню, чтобы еще раз поблагодарить вас за свое освобождение. Если бы не вы — париться бы мне на нарах до скончания века. Спасибо!
Турецкий немного помолчал, потом ответил — холодно и без всякой приязни:
— Не стоит благодарности. Вы сейчас где?
— Э-э… В ресторане. Я тут решил отпраздновать с друзьями свое освобождение. К тому же я завтра улетаю. Так что можно считать это прощальной вечеринкой.
— Значит, улетаете, — раздумчиво произнес Турецкий.
Берлин кивнул:
— Угу. Надоело, знаете ли, постоянно чувствовать себя преступником. А в нашей стране бизнесмену иначе нельзя. Как только он потеряет «страх», ему тут же напомнят — кто он, откуда и кому должен целовать руки. Так, как это случилось со мной.
— А вы не преувеличиваете?
Берлин усмехнулся и покачал головой:
— К сожалению, нет. Мой пример — не единичный. Храбровицкий вон до сих пор сидит за решеткой.
— Ну да, ну да, — рассеянно проговорил Турецкий. А потом вдруг спросил: — Куда собираетесь лететь? В Израиль?
— Да, — ответил Берлин. — Там у меня есть друзья и дальние родственники. Как говорится, примут и обогреют.
— А как насчет вашей коллекции картин?
— Что? — Берлин удивленно поднял брови: — А при чем тут моя коллекция?
— Вы забираете ее с собой?
— Разумеется. Но не сразу. Заберу ее в Тель-Авив через месяц-другой. А пока пусть побудет в Москве. Я уже оставил доверенность своему адвокату — Александру Андреевичу Добровольскому. Эта коллекция мне слишком дорога. И не только из-за денег, которые я в нее вложил. Это вопрос душевной привязанности, понимаете? Кстати, а почему вы про нее спросили?
— У вас есть охрана? — продолжил свой непонятный допрос Турецкий.
Борис Григорьевич провел ладонью по влажному лбу:
— Вы меня интригуете. Ну есть.
— Держите ее при себе, — сухо сказал Турецкий. — Постоянно. По крайней мере, до тех пор, пока не покинете Москву.
Ладонь Берлина, сжимающая трубку, вспотела.
— Да что случилось-то? — недоумевая, спросил он. — Мне что-то угрожает?
— Не знаю, — с той же прохладцей в голосе ответил ему Турецкий. — Но на вашем месте я бы поостерегся. Это все, что я могу вам сказать.
— Это все, что вы хотите мне сказать, — поправил его Борис Григорьевич.
— Пусть так, — согласился «важняк».
Борису Григорьевичу стало душно. Он ослабил узел шелкового галстука, промокнул лоб платком и сказал с усмешкой на красивых, античных губах:
— Загадочный вы человек, Александр Борисович. Но я прислушаюсь к вашему совету. На этом разрешите «откланяться». Будете в Израиле — звоните.
Разговор был окончен. Борис Григорьевич вернулся к гостям, однако прежней веселости в его душе уже не наблюдалось.
Борис Берлин сидел в мягком кресле в расслабленной позе, положив ноги, обутые в коричневые мокасины, на журнальный столик. В руке у него была бутылка пива. По телевизору показывали «Солярис», и Борис Григорьевич, всегда любивший этот фильм, с особой остротой переживал происходящее на экране.
На экране Крис Кельвин рассуждал о том, что человечество вовсе не хочет исследовать чужие миры, что оно просто пытается расширить свой собственный мир до размеров Вселенной. Этот искренний монолог вдруг вызвал в сердце Берлина такой прилив тоски и преждевременной ностальгии, что он уже всерьез стал подумывать — не отменить ли вылет и не послать ли к черту этот Израиль.
— Почему я должен улетать из своей страны? — шептал он себе под нос. — Это моя родина. Пусть лучше эти гады катятся отсюда ко всем чертям!
Возле кресла стояли три пустые бутылки из-под пива. Берлин был немного пьян. Впрочем, он всегда выпивал пред тем, как сесть в самолет, отчасти из-за страха перед полетом, отчасти для того, чтобы, едва заняв свое место в салоне, сразу же уснуть.
Сегодняшний полет не был исключением.
В комнату вошел телохранитель Юрий, крепкий, широкоплечий парень в сером костюме и темных очках.
— Борис Григорьевич, машина у подъезда, можем выходить.
Берлин взял со столика пульт и убавил громкость.