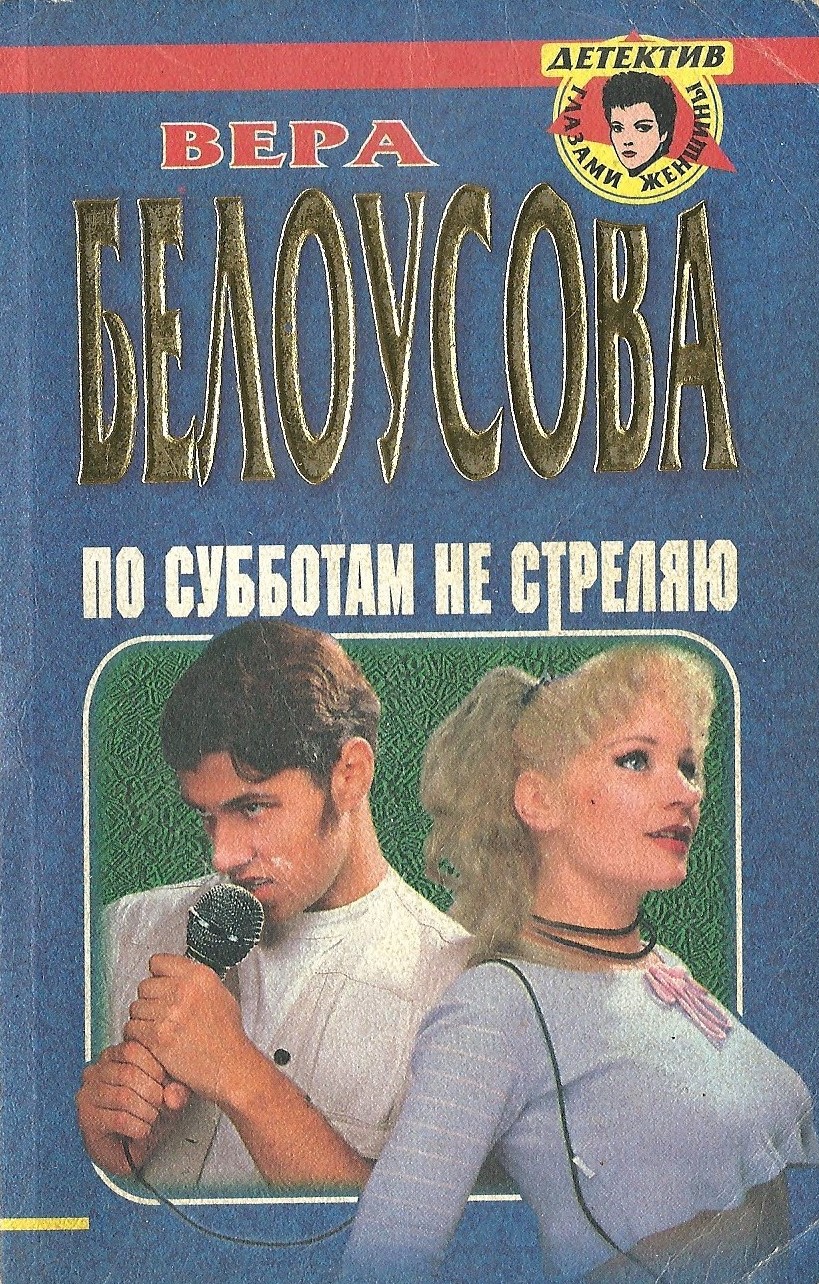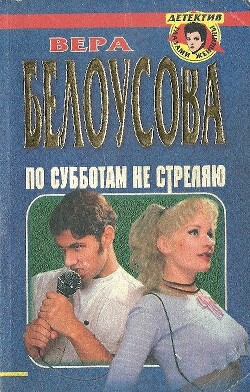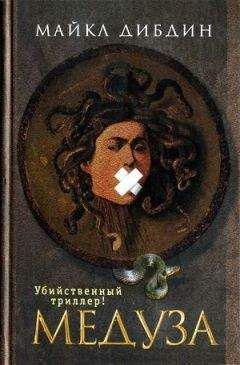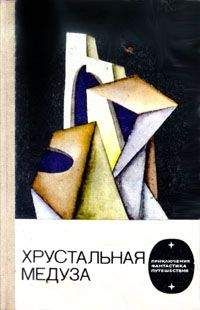с подругами, тем самым способствуя развязке — торжеству справедливости, умножению зла? Причины наползают одна на другую, как и версии предфинальных происшествий. Мы не знаем и не можем узнать, что и как сработало в последний момент, — это сознательное решение автора. По-моему, очень сильное. Антимир, в котором выпало жить героям и читателям «Медузы», не знает жалости. Вне зависимости от чаяний и чувств даже тех людей, что с толком читают Толстого, Пушкина, Тургенева, Достоевского… Повторю: финалы прежних Вериных повестей полнятся печалью. Верилось, что все же светлой. Можно ли так сказать о «Медузе»? Не знаю. Знаю, что главную героиню очень жалко. Больше, чем всех остальных персонажей. Что, конечно, справедливо, но души не веселит.
И все же… «Медуза» написана той же рукой, что и филологические детективы. Потому что Вера была филологом — в самом буквальном смысле: она по-настоящему любила слова и строящуюся из них словесность. Поэтому решила учиться на филологическом факультете МГУ, поступить куда девочке из сословия, именовавшегося «технической интеллигенцией», было не трудно, а очень трудно. Нужно было убедить в правоте выбора родителей — технари, как правило, относились к гуманитарным наукам опасливо: и рабочие перспективы туманны, и связей там нет, и… неизвестно что в насквозь идеологизированном государстве потребуется завтра от «пишущих». Думаю, эта препона преодолелась сравнительно легко: Верина мама Рахиль Иосифовна и Михаил Михайлович (к которому никто, из его знавших, не применил бы слово «отчим»!), конечно, тревожились за будущее дочери и хотели ей хорошего, но и по-настоящему верили — ей и в нее. Домашний уклад, семейные предания, круг родительских друзей сыграли в формировании Веры, да и во всей ее жизни, огромную добрую роль. Это не значит, что была она «тепличным существом», что не было у нее болезненных юношеских завихрений. Были. Их отблески мерцают в ее прозе. Дальше надо было пройти зверский конкурсный отбор. Немецкий абитуриентка выучила в спецшколе так, что много лет спустя (в конце 1980-х) блестяще переводила рассказы Бёлля. Грамотность была врожденной. Прочла и продумала она к последнему школьному году много больше, чем надлежало стандартному отличнику: знаю это доподлинно — мы познакомились и начали разговаривать о литературе, когда Вера училась в десятом классе. С историей тоже проблем быть не могло: она и содержание непрофильных школьных предметов долгие годы помнила в деталях.
Вера поступила на романо-германское отделение, надеясь попасть в норвежскую группу, — многим тогда казалось, что со знанием редкого языка трудоустроиться будет проще. Потому-то девочку туда и не взяли — кабы в 1975 году набирали группу шведскую, может, и пропустили бы, но Норвегия была активным членом НАТО, тут требовался особо проверенный контингент. Хочешь экзотики — учи язык социалистической Венгрии. И Вера его выучила. А когда спрашивали, как ей это удалось, отвечала, что слухи о бесконечном количестве венгерских падежей преувеличены, язык не сложнее иных-прочих, только надо что-то сразу понять, а там пойдет…
Итак, Вера Белоусова училась на филфаке. Но тут словом «училась» ограничиться нельзя. Вера очень быстро стала своей в «нашей компании», которую иначе как «филфаковской» назвать нельзя. Были среди «нас» и студенты других факультетов, но большинство составляли филологи — с разных отделений и курсов (размах лет в шесть-семь). Общались мы далеко не только меж собой. Так, ближайшей Вериной подругой с первых университетских дней стала — и на всю жизнь осталась! — ее одногруппница, в нашу компанию не входившая. Да и у всех нас были какие-то свои индивидуальные приязни, в том числе — к тем, кто учился рядом, но почему-то обретался немного в стороне. Затребуй от меня сейчас точный список наших, в каких-то случаях сильно бы призадумался. Да и отношения между безусловно своими строились по-разному: Икса с Игреком водой не разольешь, а Зет и Ипсилон если и трепались (гуляли, выпивали) вдвоем, то редко и случайно. Все так, но при всех приведенных и еще возможных оговорках единство нашей компании было реальным. А обеспечивалось это единство не только неприятием Софьи Власьевны со всеми ее заморочками (у кого более продуманным, у кого — менее) и эротикой, но и любовью к литературе, искренней увлеченностью филологическими сочинениями (классическими и новейшими), уверенностью в том, что мы филологи и, коли ничего страшного не случится, таковыми навсегда останемся [20].
О героях «Медузы» так сказать нельзя. В повести и речи нет о курсовых, дипломах, заседаниях научного студенческого общества, конференциях молодых ученых, докладах и публичных лекциях великих гуманитариев 1970-х — начала 1980-х, тогдашних публикациях замечательных научных трудов… Более того, в тексте отсутствует слово «филолог» и какие-либо его производные. Придя после нескольких перечитываний к этому выводу, на всякий случай проверил поиском. Буквосочетание «фил» встречается в «Медузе» пять раз: «русофил», «славянофильство» (дважды, оба раза — в широком смысле), «профиль», «фильтр». И еще — хоть не так выразительно, но тоже примечательно. Самый фактически точный фрагмент повести — зимняя поездка во глубину России. Все так и было: адская жарища в поезде, зверская холодрыга на не коротком пути от станции, изба, принадлежавшая родителям одного из нас, вкуснейшие соленья, принесенные соседями, насмешки над «барчуком», чудовищный стыд из-за протухшего мяса, с благодарностью принятого теми же соседями, прогулки, водочка с мороза, распевание любимых песен… Только без гитары — в нашей компании почти никто играть не умел, а умевшие остались в Москве. И печку мы растопили без проблем — никто по этой части не отличился, истовый пироман-истопник потребовался для сюжета «Медузы». А название локуса, где мы нагулялись вволю, заменено тремя звездочками. Мы ездили в Спасское-Лутовиново. Честно говоря, не для поклонения Тургеневу — в музей зашли, дабы не обидеть сотрудников, друживших с хозяевами нашего пристанища, — а в надежде (вполне оправдавшейся) на зимне-деревенские радости. Почему же Вере потребовалось спрятать топоним?
Да потому, что он литературный. Вера провела «дефилологизацию» нашего сообщества максимально последовательно. Текст выстроен так, чтобы сторонний читатель не смог понять, на каком факультете учились жертвы медузы. По некоторым деталям может показаться, что, скорее всего, на историческом. Но разве не ворошили страшное прошлое биологи, физики, математики? А уж в девяностые кто только не двинулся на просторы истории-социологии-политологии… Пережимаю? Может быть. Мне важно убедить читателя, что вопрос об образовании персонажей «Медузы» не имеет никакого значения. Они не филологи. Они молодые вольнолюбцы позднесоветской эпохи, времени вроде бы мягкого, но безжалостно душащего тех, кто слишком много на себя берет. Или таким кажется. Или зачем-то нужен в придушенном состоянии. Или просто не глянулся хозяевам.
Нет, я не хочу сказать, что увлеченные занятия якобы деполитизированной историей