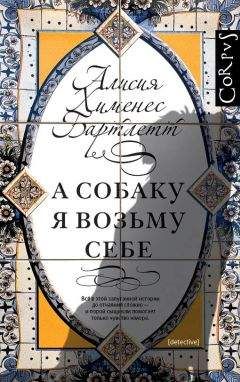– Да это же самая что ни на есть мелкая сошка!
– Однако же избили его зверски. Слишком для человека, занимающегося мелкими делишками, вы не находите? Это не укладывается у меня в голове.
– А вы рассчитываете свои силы, когда прихлопываете комара?
То, что говорил Гарсон, не было лишено смысла, однако факты, в том числе связанные с преступлением, стремятся к гармонии, а в его рассуждениях было что-то такое, что не сочеталось с хорошо выстроенной гипотезой. Столь свирепая месть требовала веского мотива.
Ящики письменного стола оказались пусты. Неужели этот человек ничего не хранил? Какого дьявола он тогда завел себе письменный стол? Ни единой бумажки, даже квитанции за газ отсутствуют. Возможно, конечно, что кто-то, избив жильца, потом очистил его квартиру, но в таком случае он же и навел в ней снова порядок.
Мы отправились расспрашивать соседей. Они не встретили нас аплодисментами. Уже в третий раз им пришлось отвечать на одни и те же вопросы: вы знакомы с Лусеной? Видели ли его хоть раз? Часто ли он здесь бывал? Все ответы сводились к одному категорическому «нет». Мы показали им фотографию, на которой пострадавший был запечатлен на больничной койке, однако она не только не помогла пробудить воспоминания, но, напротив, до того встревожила опрашиваемых, что полностью отшибла у них память. Для всех этих людей Лусена никогда не существовал. Они боялись, но не чего-то осязаемого и конкретного, внешнего и реального, а всего изменчивого и эфемерного, то есть самой жизни. Они испытывали страх как некую всеобъемлющую и абсолютную субстанцию. Как нечто тотальное. Наверное, это было единственное, что в них действительно присутствовало: страх. Брошенные женщины, утратившие надежду юноши, нелегальные чернокожие иммигранты, нищие арабские семьи, безработные пьяницы и старики с десятью тысячами песет пенсии. Они никого не знали, и их никто не знал. Они не разговаривали и не улыбались, погруженные в состояние, близкое к животному, в силу того что были лишены всего человеческого. Как не похожи были эти недоверчивые люди на веселых домашних хозяек, которых мы на днях опрашивали в квартале Кармело. Жизнерадостные женщины, что оживленно болтали, убирались у себя дома с помощью средств, пахнущих сосной, носили яркие разноцветные халаты и держали на телевизоре фотографию сына, проходящего военную службу. Это была та самая дистанция, отделяющая пролетариат от маргиналов.
Мы вышли из обшарпанной квартиры, ничего не добившись. Игнасио Лусена Пастор оказался призраком, который жил там, пользуясь своей бестелесностью, чтобы вращаться среди живых. Мы уже собирались перейти на другую сторону улицы, как вдруг кто-то окликнул нас от дверей. Это была одна из соседок, которых мы только что опрашивали. Я хорошо запомнила эту женщину, очень молодую, несомненно марокканку, вышедшую открыть нам дверь в окружении целого выводка ребятишек, мал мала меньше. Она сделала нам знак, чтобы мы подошли, не желая выходить на свет. Говорила она на примитивном испанском, мягком и прерывистом, как дыхание.
– Я дважды видела этого человека в одном и том же баре. Я была на улице, а он внутри.
– В каком баре?
– Через две улицы отсюда, на правой стороне, бар «Фонтан». Там всегда мужчины выпивают.
– Он был один?
– Не знаю. Я шла в магазин.
Несмотря на страх, она улыбалась. У нее были очень красивые глаза – черные и бездонные.
– Почему вы не сказали об этом сотрудникам городской гвардии? – спросил Гарсон.
– Дверь им открыл мой муж, не я.
– А ваш муж не хочет осложнений, верно?
– Мой муж говорит, что это не наши проблемы. Он каменщик, хороший работник, но не хочет проблем из-за испанцев.
– Но вы так не думаете? – мягко спросила я.
– Для моих детей эта страна уже родная, они в этой стране пойдут в школу. Главное – не делать ничего плохого, не обманывать.
– Я вас очень хорошо понимаю.
– Не рассказывайте, что я с вами разговаривала.
– Обещаю, что об этом никто не узнает.
Она улыбнулась. Ей было не больше двадцати пяти. Ее силуэт растворился в темноте.
– Вот это я понимаю! – воскликнул довольный Гарсон. – Примерная гражданка, да и только!
– Да, и вы можете побиться об заклад, что наша великая страна раскроет объятья ее детям, примет их с любовью и сделает для них элементарные вещи. Фактически она уже делает это – вы видели, в каких условиях они живут?
– Все наладится, Петра.
– Только не клянитесь на Библии.
Гарсон покивал головой как человек рассудительный, терпеливый и уравновешенный. По его мнению, я часто впадала в крайность при изложении своих взглядов.
Затем, разумеется, мы отправились в бар «Фонтан». В моем возрасте уже следовало бы понять, что бар отягощает биографию любого испанца, точно так же, как в биографии шведов непременно присутствует дом с паркетным полом. Тут не важен ни класс, ни верования, просто где-то в глубине у каждого простирается эта нейтральная и общая с другими территория, где нет виноватых и где ты можешь дать полную волю самым подлинным сторонам своего эго. Как я и воображала, «Фонтан» занимал в социальной пирамиде отечественных баров самый низ, так сказать, подвал. Пышный, словно барочная церковь, с собственным алтарем в виде стойки и с витражами, расписанными блюдами с мидиями и желтой паэльей, этот бар принадлежал к числу самых убогих заведений такого рода, куда я никогда не заходила. Многочисленные прихожане громко переговаривались, сидя за столами, уставленными бутылками, а главный священнослужитель с шумом мыл стаканы.
Мы представились хозяину, показали ему фото Лусены и получили неохотные ответы типа: не знаком, никогда его не видел. То же самое повторили и трое клиентов, игравших в карты за засаленным столом в углу бара.
– Но, насколько мы понимаем, он здесь часто бывает.
– Неправильно вы понимаете. Он не из постоянных клиентов, иначе бы я его вспомнил. Но если он всего раз или два заходил… что ж, сюда многие заходят.
Больше мы из него ничего не вытянули. Впрочем, возможно, он говорил правду: то, что арабка видела здесь пару раз Лусену, не означало, что он был завсегдатаем.
– Вы обратили внимание, Петра, что в детективных фильмах всегда известно, кто из персонажей лжет? И как это у них в кино получается?
– Одно мне совершенно ясно, Гарсон: дерьмовое это дело, и продвинуться в нем хотя бы на шаг равносильно победе.
– Все дела такие.
– И вся эта обстановка: непонятный тип, избитый в темном переулке, грязные квартиры, нелегальные иммигранты, вонючие бары… Поистине комиссар подсунул нам жемчужину криминалистики!
– А вы бы предпочли что-нибудь другое? – насмешливо осведомился Гарсон. – Маркизу, повешенную в своем дворце на шелковом чулке? Или похищенного шейха?
– Идите к черту!
Я слышала, как он от души смеется за моей спиной. Однако он был прав. В жизни не бывает ни легких дел, ни абсолютных добродетелей, ни вечного зла, а потому нам не оставалось ничего иного, кроме как не падать духом. Я повернулась к нему:
– Пришлите своего человека в этот бар. Пусть сидит там круглые сутки. Ясное дело, инкогнито и чтобы ушки держал на макушке. По крайней мере, в течение недели. И перестаньте насмехаться над своим начальством!
– Вижу, что вы в ужасном настроении, а между тем не все так плохо. Мы встретили весьма законопослушную женщину, молодую марокканку.
– Не напоминайте о ней, мне становится грустно, когда я представляю, какая у нее жизнь.
– Снова ваша жалость?
Я взглянула на него – он был такой радостный, такой довольный, как будто мы с ним были двумя школьниками на переменке или двумя клерками во время перерыва на кофе.
– Знаете, почему со мной это происходит, Фермин? Потому что в последнее время я слишком мало занимаюсь сексом.
Он тут же отвел взгляд, улыбка застыла на его лице. Цель поражена.
– Черт побери, инспектор!
– Я серьезно говорю, это ведь доказано: когда перестаешь вести активную сексуальную жизнь, начинаешь ощущать жалость к слабым и обездоленным. И наоборот, если ты интенсивно занимаешься сексом, то чужие беды затрагивают тебя гораздо меньше… Ты их просто не видишь.
Гарсон смотрел по сторонам, стараясь скрыть замешательство. Он по-прежнему оставался все таким же застенчивым. Любопытно, достаточно небольшого удара по традиционной структуре общения, чтобы перегородки, разделяющие друзей разного пола, зашатались, как при землетрясении.
– Напоминаю вам, что я дважды разведена; имеется в виду, что мне знакомы прелести супружеской близости… скажем так, длительной близости. Однако же теперь все это происходит так скоропалительно…
Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения Гарсона, даже с учетом того, что он называл моей «природной оригинальностью». Он надел плащ и посмотрел на серое небо взглядом метеоролога.