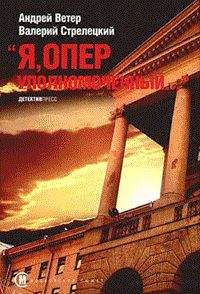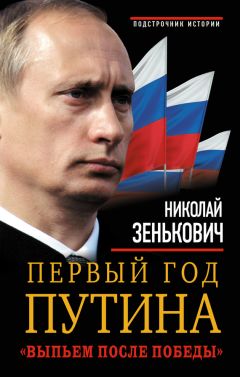Пошли вниз. Запах становился крепче.
Там ещё двое сидели, пили чай за столом. Один из них листал какой-то журнал, другой нарезал колбасу толстыми ломтями и укладывал её на хлеб. Он без интереса посмотрел на гостей и продолжил своё занятие.
Высокий санитар полистал журнал записей и ткнул пальцем:
– Есть. Номер 215. – Он повернулся к тем, что пили чай. – Вовчик, пошуруй в холодильнике, достань 215-го.
Вовчик бросил колбасу и, лениво вытирая руки о подол халата, прошёл в соседнее помещение. Сидоров со Смеляковым последовали за ним. Санитар загремел задвижкой и открыл металлическую дверь. От шибанувшего в нос трупного запаха у Виктора закружилась голова.
– Вы старайтесь ртом дышать, – посоветовал санитар. – Некоторым легче, когда ртом. Правда, от запаха всё равно не избавиться.
– А как же вы тут? – Смелкову было не по себе.
– Привычка.
Они вошли в камеру. Вдоль стен были свалены беспорядочно трупы. Голые, желтоватые, лоснящиеся. У каждого на бедре написан номер. Покойники выглядели совершенно неправдоподобно в этой куче.
– Двести пятнадцатый? – Санитар приподнялся на цыпочки и потянул к себе чью-то вывернутую ногу. Глянув на номер, пробормотал себе что-то под нос и сходил за металлической тележкой. Сбросив мёртвое тело с груды трупов на каталку, он подвинул её к Сидорову. – Пожалуйста.
Эксперт равнодушно поджидал их у двери.
Они ещё не успели отойти от холодильника, а санитар уже включил воду и направил тонкую струйку на покойников. Вода лилась слабо, и Вовчик прижал кончик шланга, чтобы вода разбрызгивалась шире и захватывала сразу несколько тел.
Сидоров шёл по коридору, едва не наступая на пятки эксперту, который за санитаром, катившим тележку. Смеляков шагал за ними, глядя перед собой сквозь почти опущенные веки, чтобы не видеть ужасного выражения лица покойника, и стараясь не дышать.
– Витя, дурно тебе, что ли? – посмотрел на него Сидоров. – Ну садись за стол, будешь записывать. Я тебе из коридора диктовать буду.
Обессиленный от переизбытка впечатлений, Виктор послушно опустился на стул. Капитан успокаивающе похлопал его по плечу.
– Ничего, ничего. Свыкнешься… Этих-то бояться не надо. Живые – вот кто бывает опасен.
Из коридора донёсся неприятный хруст.
– Это ещё что? – настороженно спросил Смеляков.
– Пальцы.
– Что пальцы?
– Эксперт ломает трупу суставы в пальцах, – объяснил Сидоров и полез в карман за «Беломором», чтобы прикурить новую папиросу.
– Зачем?
– Они же застыли, скрюченные. С них так отпечатков не откатаешь, надо распрямить.
У Виктора задрожали руки. В глазах помутнело. «Живодёрня какая-то, гестапо», – подумал он.
– Держи, – Сидоров бросил перед Смеляковым несколько бланков. – «Описание личности». Я пошёл осматривать, а ты заноси сюда всё, что я говорить буду.
Он вышел в коридор, и Виктор провёл рукой по взмокшему лбу. Ему казалось, что никогда он не чувствовал себя так отвратительно.
«Всё просто ужасно. Но ведь это часть моей работы, – успокаивал он себя. – Все проходят через это. На самом же деле нет ничего ужасного. Ну мертвецы, ну в беспорядочной куче, ну непривычно. Привыкну, раз так надо. Привыкну… И всё же гадко, просто до тошноты гадко. И почему вид покойников производит на людей такое ужасное впечатление? Нет, мы, пожалуй, не покойников боимся, а смерти. Покойников, как сказал Пётр Алексеевич, и впрямь нечего бояться, они принадлежат к категории самых безобидных существ. Смерти мы боимся, а не мертвецов. Но почему? Смерть ведь естественна. Смерть обязательна. Без неё не бывает жизни. После неё ничего нет, только пустота. Разве можно бояться пустоты? И всё же мы боимся, до головокружения боимся её…»
– Витя, читай бланк по порядку, – послышался голос Сидорова. – Что там вначале?
– Рост, – прочитал Смеляков.
– Средний! – гаркнул капитан из коридора. Виктор подчеркнул нужное слово в бланке.
– Телосложение?
– Худощавое!
– Волосы?
– Русые, пожалуй, русые с сединой.
– Лицо?
– Овальное!
– Лоб?
– Высокий!
– Брови? – прочитал Виктор очередную графу. Сидоров молчал.
– Брови! – повторил Смеляков. Капитан не отзывался.
– Пётр Алексеевич, какие брови-то у него?
– Пиши: как у Брежнева!..
* * *
После морга отделение милиции показалось Смеляко-ву настоящим райским уголком. Всё здесь было настоящее, подвижное, земное, дышало суетливой озабоченностью. Тесные помещения, обшарпанные стены, пыль на подоконнике, стекающая с обуви на пол грязь, неулыбчивые лица посетителей – всё это было проявлением жизни.
Виктор жадно напился крепкого чаю, положив в него побольше сахара, и теперь молча курил, глядя сквозь дым на капитана и ожидая его указаний.
– Ну что? Готов к свершению подвигов? – Пётр Алексеевич посмотрел на наручные часы. – Три часа. Самое время двигать. Оклемался немного?
Они вышли на улицу и неторопливо направились к Ленинскому проспекту.
– Мы своим ходом? – спросил Смеляков.
– Своим. У нас с транспортом туго, приходится на своих двоих топать. Зато территорию будешь знать как свои пять пальцев. Это всегда полезно. Да ни к чему на милицейской колымаге ехать на квартиру, где засада устраивается.
– Мы только вдвоём будем?
– Вдвоём, – кивнул Сидоров, пуская из ноздрей густой табачный дым, и полез в карман за новой папиросой. – Ты представляешь, что такое засада? Это восемь часов сиднем сидеть там. Потом нас должны сменить. Но это если по правилам. На самом-то деле придётся торчать дольше.
– Почему?
– Потому что если каждые восемь часов по два новых сотрудника в засаду направлять, то это на сутки шесть человек из нормальной работы вылетают. А у нас и так народу не хватает.
– И как же быть?
– Сидим не по восемь, а по двенадцать часов. Мозги, конечно, квасятся, глаз притупляется. Только что делать-то?..
Погода окончательно испортилась, густо повалил мокрый снег, небо сделалось по-вечернему тёмным, под ногами хлюпало. По дороге они несколько раз останавливались, с Сидоровым заговаривали какие-то люди, на что-то сетовали, о чём-то просили. Одни обращались к нему по отчеству, другие говорили просто «дядя Петя». Дважды Сидоров сам окликнул кого-то и принялся расспрашивать. Когда они сели наконец в автобус, капитан кратко ввёл Виктора в курс дела:
– На той квартире, где мы будем, живут сейчас хозяйка и две её дочери. Одна из них – любовница Татаринова.
Вторая недавно развелась, но её бывший муж, Васильев, по-прежнему живёт там, хотя почти ни с кем в семье, как сказали ребята, не общается…
Квартира оказалась крохотной, двухкомнатной, в коридоре лежали стопки газет, перетянутые бечёвками. Пожилая женщина, открывшая дверь, посмотрела на сыщиков неприветливо.
– Здравствуйте, мамаша, – сказал Сидоров. Из-за двери шагнул настороженный мужчина.
– Привет, Алексеич, – буркнул он.
– Как тут у вас?
– Никак. Чайком балуемся… – Из кухни вышел другой сотрудник. Виктор узнал обоих, видел их на совещании.
– Татаринов не давал о себе знать?
– И не даст, – послышался убеждённый ответ. – Ладно, бывайте. Удачи…
Смеляков продолжал топтаться в прихожей.
– Зинаида Николаевна, – услышал он голос Сидорова, – вам уж, наверное, говорили, но я обязан повторить: все, кто войдут в квартиру, останутся здесь. Выпускать никого не будем, так что не приглашайте гостей. По телефону тоже не звоните…
Сидоров вышел в коридор.
– Витя, чего ты застрял тут? Проходи, что ли, осмотрись. Мало ли что…
Обе дочери (Марине было чуть за двадцать, Ларисе – лет тридцать) сидели в дальней комнате и вязали на спицах. Старшая кашляла и куталась в пуховый платок. Она выгодно отличалась от своей сестры правильными, почти благородными чертами лица. Младшая была симпатичнее, но проще.
– Чего ж вы все дома-то? – спросил Сидоров.
– Болеют они, – ответила за дочерей Зинаида Николаевна. – Простуда вон какая по Москве ходит. В такую погоду мудрено, что ли, схватить?
– Понятно. А ваш муж… ну, бывший муж то есть? Он всё ещё здесь обитает?
– А куда ж он денется? – хмыкнула Лариса. – Часов в шесть объявится, а то и раньше. У них в институте день не нормированный.
Виктор прошёл на кухню. От стены к стене тянулись верёвки, с них свисало только что выстиранное бельё, среди рубашек и полотенец Смеляков увидел женские панталоны и лифчики и ощутил неловкость. Служебная необходимость заставляла его вторгаться в чужую личную жизнь и пробуждала в душе противоречивые чувства. И висевшие над головой Виктора бюстгальтеры словно твердили: «Здесь протекает человеческая жизнь, настоящая, не театральная, здесь любят и ненавидят, здесь всё наполнено неведомыми тебе заботами, неразрешимыми вопросами, а ты приходишь сюда, пялишься, слушаешь, всюду суёшь свой нос…»
– Может, чаю выпьем? – спросил он Петра Алексеевича, не зная, на чём остановить взгляд и чем занять себя.