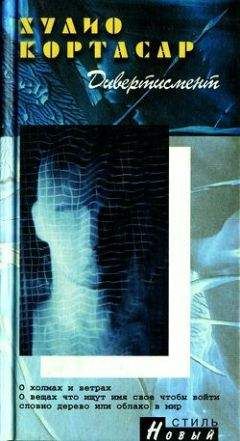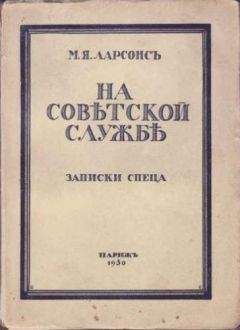Все это будет. Не будет только больше Сим-Сима.
В этом заключалась чудовищная несправедливость. Я припомнила, что удивило меня совсем недавно, когда я присела на ступеньки дома, задохнувшись от свежего воздуха. Было шесть утра. Обычно к шести перед домом собирались все наши псы: пара дворняг, престарелый и уже не рабочий сеттер Алан и три выпущенные из вольера на выгул караульные немецкие овчарки. Они знали, что ровно в шесть утра Туманский появится на пороге, в старой спортяшке и кедах, и рванет в пробежку вокруг пруд-озера. Сим-Сим их воспитал, они были деликатны и за ним не бегали. Просто сидели на ступеньках перед парадным, внимательно следя за ним. Карманы Сим-Сима были набиты собачьими английскими сухариками и еще чем-то вкусненьким. И каждый знал, что получит свою долю. Чтобы потом, восторженно повизгивая, подставлять под его лапищи ухо или брюхо и получить свою долю ласковой трепки.
Но сегодня собак словно отсекло. Они бродили, неприкаянные, далеко от дома. И даже когда я помахала им рукавицей и призывно свистнула, к дому не двинулись. Постояли, словно о чем-то переговариваясь на своем собачьем наречии, и вдруг разом развернулись и потрусили прочь.
Потом Элга подтвердила, что действительно собаки перестали ждать Туманского именно с того дня, когда его убили.
Будто совершенно точно знали, что его больше не будет никогда.
Но я-то об этом догадалась сейчас.
И вмиг их возненавидела.
Они имели наглость — быть живыми.
Они — все!
Не только эти умные шавки.
Элга тоже…
И Чичерюкин.
И Цой.
И даже Гаша.
Но такая же дикая, отчаянная, неизбывная вина давила на меня. Как будто я могла предугадать, что случится, и что-то сделать для его спасения. Но Сим-Сима не было, а я все еще продолжала быть — подняла себя с койки, дышу, вижу и слышу, ем и пью, седлаю Аллилуйю и чую, как в жилах пульсирует кровь, и все, что во мне обмерло и как бы пригасло в тупом беспамятном оцепенении, встрепенулось, ожило и конечно же заставит меня и дальше жить.
Подспудно я, конечно, понимала, что думать так — полный кретинизм, но где-то там, в мутных глубинах моей смятенной и растерзанной в куски душонки, то разгоралась, то пригасала эта почти неосознаваемая злость на себя. На них. На всех живых…
Года четыре назад и я была буквально раздавлена какой-то непонятной запредельной силой, я впервые осознала, что есть, существует какой-то злобно-веселый и всемогущий Небесный Кукольник, к которому сходятся ниточки — веревочки от всех людей. Этот Главный Весельчак ведет тот бесконечный спектакль, который называется жизнью, и, ухмыляясь в бороду, дергает за свои веревочки, заставляя живые деревяшечки-куколки делать то, что нужно не им, а ему, Главному Кукольнику.
Ты думаешь, что он о тебе забыл, что ты сама в своей жизни все решаешь и вольна идти туда, куда влечет тебя вовсе не жалкий жребий, и жизнь прекрасна, и в этом мире человек человеку — брат (ну сестра!), и все добры, и три шага — до счастья… Но он дергает за веревочку, и ты летишь кувырком, поскуливая и ничего не понимая. И вечный вопрос «За что?!» так и остается без ответа.
Вот он снова и дернул…
Дубняк раздался, открылся пойменный луг, переходивший в склон громадного пологого холма. На вершине его белела часовенка из известняка, с простым железным крестом — медный или позолоченный Туманский тут ставить не решился: спилят, украдут.
Вдали просматривался канал Москва — Волга, за ним темнели леса, уходившие в сторону Твери.
Нетронутый снег луговины под солнцем казался фарфоровым, и белая часовенка на белом холме тоже казалась фарфоровой игрушкой. От тишины звенело в ушах.
Кобылка дальше не пошла, на просторе снег был слишком глубок, и, когда я попробовала ее стронуть, она вывернула башку и посмотрела на меня, будто сказала: «Ты что, офигела, девка?»
Я соскочила на землю и побрела дальше пехом.
У подножия холма из-под снега торчали остатки какой-то бревенчатой стлани, угадывались следы тракторных гусениц, и я поняла, что завозили сюда домовину с телом Туманского не без проблем.
Гранитные ступени неширокой лестницы без перил были занесены снегом, но я умудрилась забраться наверх, не сверзившись.
Часовня была заперта, на воротцах висел амбарный замок. Черная мраморная плита, на которой было выбито лишь «Нина Викентьевна Туманская», без дат и всяких там наворотов, была сдвинута в сторону. На свежей могиле, горке из мерзлой глины, было множество венков с лентами, не уместившиеся на могиле венки были расставлены вокруг часовни. Слава богу, тут не было никакой дешевки из крашеного поролона. В основном благородная хвоя с увядшими живыми цветами.
Один венок был из лавра, темно-глянцевые листики которого мороз не тронул. На белой ленте чернели слова: «Прощай, Семен!» Венок был от Кена, то есть Тимура Хакимовича Кенжетаева, близкого дружка и соратника Туманских.
Я подумала, что лаврушку непременно сопрут, с этой вечнозеленой листвой до весны ничего не сделается, огурцы солить — самое то!
От меня венка не было, хотя Элга могла бы и додуматься. Все-таки какая-никакая, а тоже Туманская. Я была возмущена.
Самое чудное, что я ничего такого, чтобы удариться в слезы и вопли, поначалу не чувствовала. Может быть, оттого, что я не видела, как его здесь зарывали, гвозди заколачивали, хотя наверняка это были не гвозди, а какие-нибудь бронзовые винты.
И гроб наверняка был не хуже, чем у его первой жены. Тот, я видела, с блестящими ручками, тяжеленный, из какой-то иноземной древесины, отсвечивавший красно-черной полировкой, как рояль.
И саму бывшую хозяйку территории и всего остального я тоже разглядела. Неживую. Она бесстрашно грохнула сама себя, когда узнала, что ее начал пожирать какой-то неизлечимый быстротечный канцер. Она боялась, что ее начнут обстругивать в бессмысленных операциях и превратят в нечто уродливое и беспомощное, которое грузом повиснет на Сим-Симе. Это было совсем недавно, меньше года назад, когда я увидела ее в первый и последний раз: тонкое резное лицо, изогнутые в неясной улыбке губы, белая наморозь холодильного инея на ресницах, кристаллики льда в похожей на шапочку из перьев прическе и пронзительный синий свет сапфиров в ее серьгах и кольце.
Ее не было, и она все еще была, оставалась во всем, что меня окружало, и до сих пор я то и дело натыкалась на ее следы, то на какую-то одежду, то на пометочки в томике Ахматовой, то на непочатую пачку арабских сигарет, которые она обожала…
Стиснув зубы, то и дело заводясь, я старательно избавлялась от всего, что напоминало о ней, но до конца так и не избавилась. Леденея от страха, что он пошлет меня ко всем чертям, обмирая и трепеща, я, как в пропасть, прыгнула в койку к Сим-Симу еще в прошлом июне. Он заставил меня поверить в то, что я — желанная. Я впервые растворилась без остатка в мужике и взлетела наподобие птички в ослепительные выси, не веря в то, что он мой, забыв стеснение и стыдливость, ненасытная и поглупевшая от нормального бабьего счастья. Но официальной Туманской я стала слишком недавно и еще не успела привыкнуть к тому, что я — действительно жена! — и пробыла в этом ранге (я посчитала по пальцам, сняв варежку) двадцать восемь дней.
Снизу донеслось ржание Аллилуйи. Эта дурочка была привязана ко мне, как собачка, и ей не понравилось, что я ее оставила одну близ леса. Она брела к холму, то и дело проваливаясь по стремена в снег и выпрыгивая из сугробов, как лягушка на берег.
С верхотуры она казалась совсем крохотной в этом огромном сверкающе-солнечном просторе. Я вдруг вспомнила, что это место под усыпалище Туманских выбирала она, Нина Викентьевна. Она хотела лежать именно здесь, и Сим-Сим в считанные дни отгрохал и часовню, и лестницу: он всегда исполнял ее желания.
Меня пронзила мысль, что это все — от нее, первой Туманской. Она так пожелала.
Она забрала к себе Сим-Сима. Не дала нам быть вместе. С того самого момента, когда я увидела Туманского, а он меня, все чаще и чаще ко мне приходило это странное ощущение чужого взгляда. Будто кто-то постоянно рассматривает меня, холодно и брезгливо. И я не могла избавиться от ощущения какой-то вины перед той, которой уже не было. И похоже, именно она поставила точку, будто сказала из своей беспредельности и потусторонности, или где они там пребывают, эти самые бесплотные души: «Поигралась, девка, и будя!»
В конце концов женщина остается женщиной всегда. Даже после смерти. Ну не могло же меня так тюкнуть в темечко, оглоушить и сверзить с сияющих вершин без какой-то тайной и темной причины? Или ей помогал Главный Кукольник?
И должна же быть какая-то причина, из-за которой я не смогла даже проститься с моим Туманским, и не просто как ополоумевшая от любви постельная подружка, а как законная супруга. Я не проводила его на этот бугор, где его положили рядом с нею. И в этом тоже был злой умысел!
До меня дошло, с чего меня принесло на эту верхотуру. Здесь я могла позволить себе поплакать. Без свидетелей. Без их сочувствия и слез. Я не могла им позволить разделить мою личную и неприкосновенную боль…