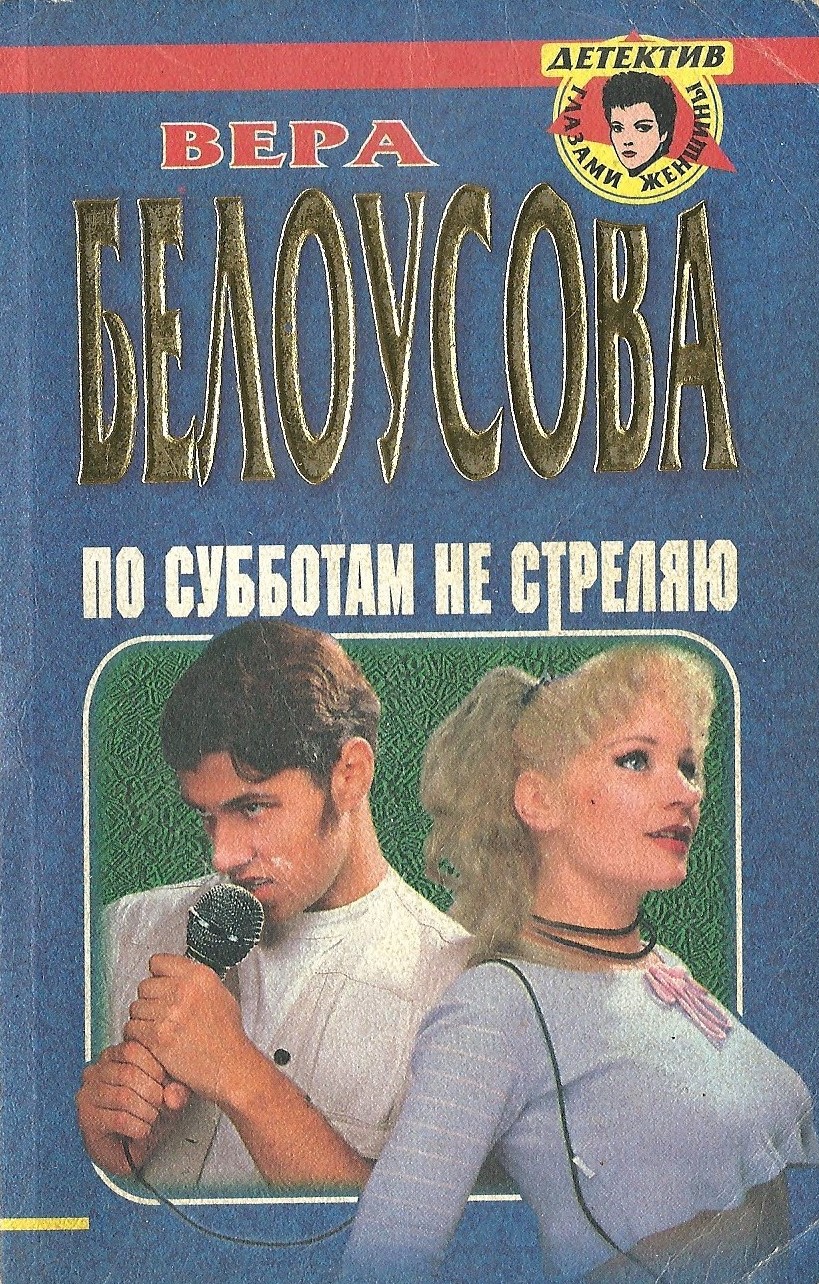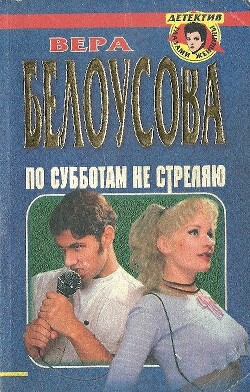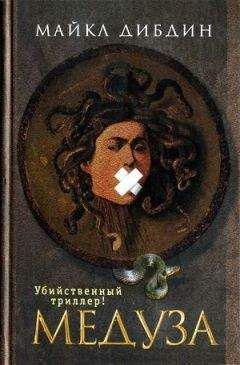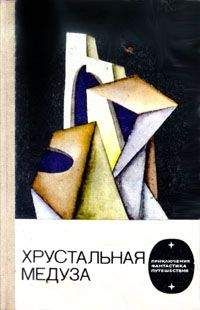Женька. Здесь вообще сработал совсем другой механизм — от противного. Родители часто уезжали в командировки, вызывали на помощь бабушку. Бабушка была тот еще экземпляр — старая большевичка, идейная и непоколебимая. Переборщила она со своей пропагандой и агитацией — у Женьки выработалась стойкая идиосинкразия. Принципиальность, впрочем, передалась по наследству…
Да стоит ли вообще искать корни? Кому-то хватало просто оглянуться вокруг.
Итак, они ее очень не любят. А мало что сближает так, как общий противник, особенно если он злобен, коварен и вездесущ. Личные конфликты, конечно, есть — куда ж от них денешься. Кто-то, скажем, распускает сплетни, кто-то кого-то бросает, кто-то кого-то отбивает… Лера, например, самым бессовестным образом увела Гарика у Ники, и Ника страдала. Гарик этот вообще до появления Мирелы был чем-то вроде переходящего приза. Все это имело место, но на фоне главного как-то бледнело, что ли, теряло вес. Не становилось уважительной причиной для ссоры или тем более разрыва. Ну и какая же тут, спрашивается, самостоятельность и внутренняя независимость, если выходит, что не кто иной, как она, сука Софья Власьевна, диктовала им, что хорошо, что плохо, что важно, а что не важно? Парадокс, что и говорить… Катя спохватилась, что думает не о том, и снова принялась за фотографии.
Смешные какие… Вот эти, первые, — с картошки. Кто же там фотографировал? Ни за что не вспомнить… Видок у них у всех тот еще. Грязные, встрепанные, в ватниках. Баня там, помнится, была раз в неделю. Вот Женька — кудрявая, круглолицая, очень серьезная, смотрит почему-то непримиримо. Ох как страшно представлять себе ее голову в бинтах, на подушке… Нет, об этом сейчас нельзя. Временно вытесняем. Слезами горю не поможешь и всякое такое… Смотрим дальше. Рядом — Лерка. Светлые волосы — по плечам, вид, несмотря на ватник, чрезвычайно кокетливый. Ника машет кому-то рукой — фотографу? и кто же все-таки этот фотограф, спрашивается? — и улыбается. Даже в ватнике видно, что миниатюрная черная челка до бровей, высокие скулы, глаза чуть раскосые. Странно, сейчас эта раскосость как будто меньше заметна. А вот и она сама, Катя. Длинная, выше всех. Еще не постриглась, волосы гладко зачесаны и стянуты в хвост. Глаза большие, круглые, смотрят с интересом. Почему-то вспомнилось, что тогда она себе на этой фотографии ужасно не понравилась. А теперь кажется — очень даже ничего.
На этой фотографии почему-то одни девочки. На другой — все вместе, на фоне большого сарая, сбоку — какие-то петухи и гуси, как в Тарусе. Собственно, только гусей и можно толком разглядеть, лиц не видно совершенно. Можно понять, что у мальчиков длинные волосы образца семидесятых — у всех, кроме Сашки, он перед картошкой предусмотрительно побрился наголо. И бачки, бачки у Гарика! Очень трогательные бачки, просто прелесть!
Ни Васьки, ни Мирелы, разумеется, еще нет. Это — самое начало. Там, на этой картошке, сложился костяк их компании.
Было примерно так. Вечером возвращались с поля, еле волоча ноги. Промерзшие, усталые, с одной мыслью — поскорее добраться до койки. А дальше начинались чудеса. Стоило кому-нибудь взять в руки гитару или включить магнитофон, как открывалось второе дыхание — если не у всех, то у многих. Вдруг выяснялось, что, в общем, даже и поплясать можно, а уж попеть и послушать — вообще за милую душу, как же без этого.
Главным гитаристом был Гарик. И вот как-то раз сидели вечерком, как обычно, слушали, подпевали. И так: «Геркулесовы столбы», «Смит-вессон калибра тридцать восемь» [2], Окуджава немножко, а потом он возьми да и спой, ни на кого не глядя, песенку запрещенного барда. Сама по себе песенка была довольно нейтральная, тут все дело было в имени автора, которое уже некоторое время было под строжайшим запретом. И — началось… Кто-то ничего не заметил, кто-то подтянулся поближе, кто-то даже подпел. Так они осторожно обнюхались в первый раз. А потом пошло: цитатки из запрещенных и полузапрещенных авторов, тайные имена — слова-знаки, слова-маячки, по которым они распознавали друг друга. И… собственно, вот так оно и сложилось…
Мысли окончательно уехали куда-то вбок. Катя встала и принялась расхаживать взад-вперед. Тут вошла Варька, с мороза, раскрасневшаяся, окинула взглядом стол с разложенными на нем фотографиями, вышагивающую по комнате Катю и отчего-то насторожилась:
— Ностальгия?
— Что-то вроде… — Катя, разумеется, не собиралась выдавать настоящую причину и рассказывать о письме — совершенно незачем девочку пугать.
— А чего ходишь-бродишь?
— Да так… Растекаюсь мыслию по древу.
— Не хочешь говорить?
— Да нет, почему, пожалуйста.
И Катя рассказала вот как раз об этом: как Гарик спел, о словах-маячках. Варька удивилась.
— У тебя получается похоже на… ну я не знаю… на какую-то революционную ячейку. Подпольную.
— Да ничего подобного! — возмутилась Катя. — Во-первых и в-главных, мы не собирались ни с кем сражаться. А во-вторых, там вообще было совсем другое…
— Что — другое?
— Любовь. Эр-ротика.
Девочка смотрела с недоумением:
— Ты же сама только что…
— Сейчас объясню, — заторопилась Катя, сама удивляясь своему волнению. — Это не то… не о том! Это… как тебе сказать… это такое sine qua non… обязательное условие. Так обозначался круг людей, с которыми вообще имело смысл общаться, понимаешь? Да и сейчас это есть, что ты мне говоришь! Есть категории людей, с которыми ты, например, ни за что не стала бы… Стала бы ты общаться… ну я не знаю… со сталинистом, например, или с нацистом? Ну то-то! Не стала бы! Просто сейчас спектр шире, а тогда только мы и они…
— Удобно, — задумчиво проговорила Варька.
— Еще как удобно! Не зря мы так бинарные оппозиции любили. Потом-то, после советской власти, вдруг выяснилось, что взгляды у нас у всех вообще-то совершенно разные. Ты не представляешь, какой был шок.
— А что там насчет любви?
А насчет любви — все. Все было пропитано и пронизано ею до последней точечки. Любовный воздух, любовная атмосфера — совсем как в доме у Ростовых во втором томе, только с учетом сексуальной революции, разумеется. Все, все было пропитано этой энергией — каждый жест, каждое слово. Вот чего невозможно объяснить — даже это самое противостояние власти как-то… возбуждало. До поры до времени, во всяком случае, пока не стало по-настоящему страшно. И