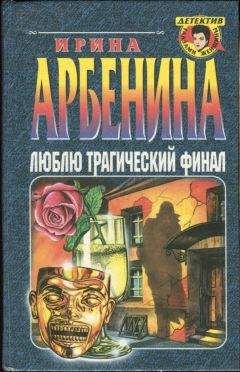«Нужны гениальные постановщики…» — твердят все кругом.
Но он есть!
Опера — это ведь синтез искусств. Там должно быть все.
У него — даже более, чем все… То, чего не было никогда…
И они, эти критики, все они просто не знают, что он — гениальный реформатор — уже появился…
А Дорман хотел выгнать его из театра… Лишить общения с искусством…
Вызвал его к себе в кабинет… Спрашивал, грубо, резко, что за история с Цвигун? И как он, мол, смеет подражать его, Дормана, голосу…
«Я не хочу ни в чем разбираться… — сказал Дорман. — Но две недели, положенные по трудовому законодательству, — и чтобы ноги вашей больше в театре не было…»
Да, это свойство, конечно, именно людей интеллигентных, они ни в чем не хотят разбираться, «копаться»…
Однако, если бы Дорман вдруг передумал и стал «разбираться» в том, что случилось с Викой Цвигун…
Это дормановское разбирательство стало бы для него смертельно опасно. В целях личной безопасности он просто обязан был такое гипотетическое разбирательство предотвратить.
И так кричать на него… Разумеется, Дорман не мог не поплатиться за это!
Ему очень помогли ключи от квартиры Дормана.
Бедная, предусмотрительная и хитрая Вика Цвигун — вот только финала своего, увы, она не смогла предусмотреть! — Вика со всех попадавших ей в руки в кабинете шефа «Делоса» ключей делала копии. А он, пользуясь Викиной сумочкой, делал копии — с копий…
Итак, дождавшись, когда вернувшийся домой Дорман пойдет в ванную, что вполне естественно для вернувшегося после трудового дня человека… И услышав шум воды — с лестничной площадки это слышно! — вошел незаметно в квартиру Дормана. Закрыл снаружи дверь ванной и воспользовался баллончиком с газом… Тонкий резиновый шланг, ведущий от баллончика, вставляется в щель между дверью и полом…
Вот и все.
Потому что Дорман хотел лишить его шанса.
Да, именно так он и воспринимал все свои действия за последнее время… Как шанс.
Как возможность реализовать неиспользованные потенциальные способности.
Второе рождение.
Когда кажется, что все уже в жизни предопределено на много лет вперед, до последнего дня… И взять все — и перевернуть!
Даже есть такая телепрограмма: «Сделай шаг!» Так и называется.
Как еще это называется? Начать новую жизнь? С понедельника? Он, правда, не помнит, был ли тот день понедельником…
Он не лгал этой ее светловолосой подруге… Нисколько. Так все и было. Он приехал к Джульетте с приятелем. Всего лишь визит к «женщине без комплексов». Просто деньги — и море любви. И вдруг… Первый щелчок по сердцу — эти две трогательные буковки в ее имени: «тт-а»! Джульетта… Как прикосновение палочек к барабанной коже.
И, конечно, то, что она была музыкантшей. Конечно, это тоже его поразило. Приятель сказал: чуть ли не консерваторию окончила. И усмехнулся при этом: «Ну, что ж, не смущайся — римлян ублажали флейтистки…»
И само ее имя — Джульетта! — не имеющее ничего общего с зауряднейшим человеческим потоком, струящимся по московским улицам. Оно, имя, тут же вытягивало из сознания, как платок фокусника вытягивает за собой из кармана массу всякой зацепившейся за него всячины, — другое имя… Виолетта.
Но Федорова первая его произнесла. Потом. Позже.
…Это был уже медовый период их отношений.
Как сказано в «Даме с камелиями»: «Ровно три месяца с тех пор, как они, охваченные взаимной страстью, покинули шумный Париж и поселились… в полном забвении всего окружающего».
В их случае — забвение всего окружающего заключалось в том, что Джульетта отказалась от клиентов. Она теперь принадлежала только ему. И… Ну, все в точности как в «Даме с камелиями»: «Прошлое стало бесформенным, будущее — безоблачным…»
«Тихо и счастливо летит время».
И он действительно ее любит, и для него действительно не имеет значения, каким образом она еще недавно зарабатывала деньги.
И она первая в блаженном счастливом спокойствии, полеживая на тахте, сказала тогда, глядя на букет роз, осыпающийся в вазе (лепестки попадали в круг света от настольной лампы — и цвет их был темно-багряный, глубокий, до черноты):
— Похоже, правда?
— Что похоже?
— Ну… «Она любила цветы камелии за то, что они без запаха, и богатых мужчин за то, что они без сердца».
— А… Верди.
— Да. «Травиата»…
— Похоже.
— Сержик, ты слышал, какая главная беда на закате тысячелетия? — поинтересовалась у него Джульетта. — Жизнь стала копировать искусство! Люди подражают героям кино, они копируют сочиненную, придуманную картинку. Не реальную, а созданную чьим-то воображением жизнь! Не то что раньше, когда искусство старалось отразить жизнь. Теперь жизнь отражает искусство.
— Пожалуй, — заметил он.
— Ты чувствуешь, как похоже?! — Джульетта обвела комнату взглядом. — «Полумрак спальни… Вспыхивают хрустальные грани безделушек на туалете… серебряным блеском отливает равнодушная гладь зеркала…»
— Да, да. — Он рассмеялся. — Просто удивительно!
— «В жардиньерках борются со смертью розы и выносливый вереск… Они погибают без воды. Их госпожа погибает без надежды на счастье»!
— Вот только «вереска выносливого» у нас нет… А так точно: «Травиата».
— И даже то, что у тебя такая фамилия… Не совсем, конечно, Жермон, но все-таки…
— И то, что ты…
— Да, и то, что я — куртизанка высокого пошиба.
— Извини!
— О, не извиняйтесь. И твой строгий отец, который никогда не позволит тебе любить куртизанку.
— Да-да, и «молодой человек из провинции»… Гореловка сойдет за провинцию?
— Сойдет. Там вполне, в отличие от развращенной столицы, строгие, пуританские нравы, не так ли?
— Так.
И, воображая себя Дорманом, он стал выстраивать мизансцену.
Тот диалог с Федоровой он вспомнил почти дословно, когда медовый период их романа закончился.
В тот вечер Джульетта принялась флиртовать у него на глазах, как и подобает легкомысленной женщине, отнюдь не случайно ставшей «жрицей любви».
Он пришел в ярость. Он увез ее «домой». Дома после краткой «любви» ярость прошла.
Он оглядел комнату… «Полумрак спальни… В жардиньерках борются со смертью розы и выносливый вереск… Они погибают без воды. Их госпожа погибает без надежды на счастье!»
Много раз воссоздаваемое в воображении видение (ведь он уже столько раз, воображая себя Дорманом, выстраивал эту мизансцену) стало сливаться с реальностью…
Итак… «Полумрак спальни. Рядом с кроватью столик — на нем лекарства…» Начало третьего действия.
Он знал, что шампанского она выпила почти целую бутылку.
— Сержик, ты не дашь мне воды? — Джульетта поднесла руку к пересохшим губам.
— Минералки?
— Да. И одну таблеточку, пожалуйста…
Таблетки снотворного она растворяла в воде.
— Нельзя. Нельзя смешивать со спиртным, ты же знаешь…
— От одной ничего страшного…
— Ну, как хочешь.
Он бросил таблетку в высокий бокал и стал смотреть, как пузырьки поднимаются к поверхности, на их движение.
Что-то похожее на рекламный ролик, где из кубиков льда возникают какие-то видения… Что возникало в его бокале? Возникало, что он неудачник. С которым судьба обходилась жестко и без церемоний. Она отняла у него голос. Отняла руками девушки, которая когда-то, в юности, посмеялась над его любовью.
Сейчас он жалкий, третьесортный. А мог быть как знаменитый тенор Милютин. Да, скорей всего после подростковой ломки у него прорезался бы чудесный — Жермон и Радамес — настоящий тенор… Или нет… он мог бы быть как сам Дорман, да, как знаменитый Дорман…
Если бы та тварь бездушная, та девка, не сломала что-то в его душе. Не сломала его уверенность. Его силу, необходимую для жизни и создания искусства. Ее смыло тем ледяным дождем, под которым он шел, когда та тварь выгнала его.
Потом были болезнь, жар, жестокая простуда… Ему было тогда шестнадцать лет.