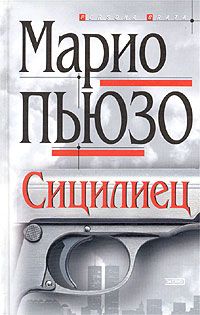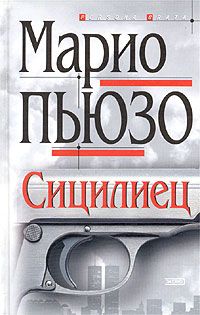Но больше всего радовало Лючию Санту то, что Джино становится мужчиной, вливается в живую жизнь. Ей больше не придется с ним ссориться, и она почти простила ему все оскорбления, которые терпела от него раньше. Он заметно посерьезнел.
Неужели ей не придется больше бороться? В это Лючия Санта ни капельки не верила, однако ни на минуту не могла допустить, чтобы кто-нибудь назвал ее безвольной тряпкой, отказывающейся воспользоваться удачей, плывущей ей в руки.
Каждый вечер, приходя на службу, Джино ловил себя на том, что не верит собственным глазам и ушам. Поднимаясь на лифте, а потом вступая в круг света и слыша лязг машинок, выплевывающих накладные, он чувствовал себя как во сне. Однако мало-помалу он начинал понимать, что это и есть реальность.
Его смена начиналась в полночь и длилась до восьми утра; все эти часы пыльный зал вовсе не кишел призраками, стеллажи с бумагами и черные машинки не думали покидать своих мест; в темноте становилась незаметной стальная сетка, за которой обычно прятался кассир. В этой обстановке Джино как одержимый колотил по клавишам Он прекрасно справлялся с обязанностями – сказывалась спортивная координация движений и зоркий глаз. Норма составляла триста пятьдесят счетов за ночь, но он легко перевыполнял ее. Иногда у него выдавался свободный часок, который он посвящал чтению; потом снизу, где грузились и разгружались вагоны, поступали новые счета.
Он никогда не вступал в разговоры с людьми, в обществе которых работал, никогда не участвовал в их беседах. Главный по ночной смене поручал ему самые трудные счета, но он никогда не возмущался.
Все это не имело для него никакого значения – слишком он ненавидел окружающее: само здание, пропахший крысами зал, грязные на ощупь стальные клавиши печатной машинки; ненавидел тот момент, когда входил в желтый круг света, где работали, согнувшись, шестеро клерков и главный по смене.
Это была настоящая физическая ненависть; иногда она становилась настолько невыносимой, что по его телу пробегал холодок, волосы вставали дыбом, а во рту делалось до того кисло, что он отбрасывал стул, выходил из круга света и торопился к темному окну, за которым тянулись напоминающие тюремные коридоры узкие улицы, освещаемые фонарями со столбов, смахивающих на караульные вышки. Когда главный по смене, молодой человек по имени Чарли Ламберт, окликал его: «Займись-ка счетами, Джино!», причем в голосе его звучало нескрываемое осуждение, он никогда не отвечал, никогда не торопился назад к машинке. Даже узнав, что числится в черном списке, он не нашел в душе и отдаленного подобия ненависти к Чарли Ламберту.
Он испытывал к нему такое холодное презрение, что вообще не считал его человеком и не мог поэтому питать к нему каких-либо чувств.
Гнуть спину только ради того, чтобы выжить; тратить жизнь только на то, чтобы остаться живым, – это было для него ново. Не то что для матери, Октавии, разумеется, отца. Наверное, и Винни провел у этого темного окна не одну тысячу ночей, пока сам Джино прочесывал улицы города в компании дружков или безмятежно спал в своей кровати.
Однако шли месяцы, и ему становилось все легче мириться с такой жизнью. Об одном он не мог думать – что такая жизнь может затянуться. Однако холодный рассудок подсказывал ему, что она может длиться бесконечно, Как и подобает матери семьи при столь благоприятных обстоятельствах, Лючия Санта правила своим домом, как истинная синьора. В квартире было неизменно тепло, независимо от того, сколько денег приходилось тратить на уголь и керосин. На плите всегда оставалось достаточно спагетти для друзей и соседей, которые заглядывали к ней поболтать. Никто из детей не мог припомнить случая, чтобы, вставая из-за стола, они не оставили на блюдах достаточно еды в дымящемся соусе. По случаю воскресной трапезы на столе раскладывалось особенно много вилок и ложек, чтобы полакомиться могли все члены семьи – и несемейные, и семейные, – хотя уговаривать никого никогда не приходилось.
В первое воскресенье декабря готовилось особое peranze «Застолье (ит.)»… Старший сын Ларри дорос до первого причастия, и Лючия Санта приготовила по этому случаю ravioli. Она рано поставила тесто, и теперь они с Октавией возводили на просторной доске крепость из муки. Сперва они разбили дюжину яиц, потом еще дюжину, и еще, пока четыре белые стены не рухнули в море белка, расцвеченное желтками. Перемешав все это, они изготовили груду рыхлых золотистых шариков. Раскатывая эти шарики, Октавия и Лючия Санта кряхтели от напряжения. Сал с Леной поднесли им большой сосуд с сыром ricotta, куда они, заранее облизываясь, добавили перца, соли и яиц.
Пока варились ravioli и булькал густой томатный соус, Лючия Санта перетаскивала на стол блюда с prosciutto и сыром. Затем настал черед блюд с говядиной, фаршированной яйцами и луком, и огромного куска свинины, темно-коричневого и до того размягшего от долгого кипения в соусе, что достаточно было одного прикосновения вилкой, чтобы нежнейшее мясо тотчас отделилось от кости.
За едой Октавия, вопреки обыкновению, шушукалась с Ларри и с готовностью отзывалась на его рассказы и шуточки. Норман расслаблено тянул вино и беседовал с Джино о книгах. После еды Сал и Лена убрали со стола и приступили к мытью огромной груды посуды.
Воскресенье выдалось чудесным для декабря; подошли и гости: Panettiere с Гвидо, наконец-то расквитавшимся с армией, неутомимый парикмахер, рассматривающий сквозь пелену красного вина головы присутствующих, ревниво отыскивая следы от чужих ножниц. Panettiere мигом умял целую тарелку горячих ravioli: он питал слабость к этому блюду, на которое его жена – почившее чудовище – вечно жалела времени, целиком уходившего у нее на подсчитывание денег.
Даже тетушка Терезина Коккалитти, превратившая свою жизнь в тайну для окружающих и извлекавшая из этого немалую прибыль, преспокойно накапливая жирок и огребая семейное пособие при четырех здоровенных работящих сыновьях – никто не догадывался, как это у нее получается, – даже она отважилась на несколько стаканчиков вина, добрую порцию вкусной еды и беседу с Лючией Сантой о тех счастливых деньках, когда они девчонками разгребали в Италии навоз. Пусть правило тетушки Коккалитти состояло в том, чтобы немедленно запирать рот на замок, услыхав от кого-либо личный вопрос, – сегодня она изменила себе и благодушно улыбнулась, когда Panettiere поддел ее на предмет махинаций с пособием. Две рюмки вина сделали свое дело: раскрасневшись и расчувствовавшись, она посоветовала всем присутствующим отхватывать у государства все, что только можно, ибо, в конце концов, все равно придется отдать ему, проклятому, вдесятеро больше, независимо от прежней прыти.
Джино, уставший от болтовни, уселся на пол перед фасадом собороподобного радиоприемника и включил его. Ему хотелось послушать спортивный репортаж. Лючия Санта насупилась, сочтя это грубостью, хотя радио верещало так тихо, что никто ничего не слышал. Потом она оставила его в покое.
Норман Бергерон первым заметил странную перемену в поведении Джино. Тот, припав к радио ухом, внимательно смотрел на сидящих за столом. Отложив книгу, Норман понял, что Джино смотрит на мать. На его губах играла улыбка – но не радостная, а какая-то жестокая. Октавия, проследив взгляд мужа, повернулась к радио. Она так ничего и не расслышала, но в глазах Джино горело такое оживление, что она не вытерпела и спросила:
– Джино, в чем дело?
Джино отвернулся от них, чтобы спрятать румянец.
– Японцы напали на Соединенные Штаты, – сказал он и крутанул ручку громкости. Взволнованный голос диктора заглушил все голоса в комнате.
Джино ничего не предпринимал, пока не прошло Рождество. Потом ранним утром, сразу после смены, он отправился на призывной пункт. В тот же день он позвонил мужу Октавии на службу и попросил передать Лючии Санте, где он находится. Вскоре его послали в учебный лагерь в Калифорнии, откуда он регулярно писал и слал домой деньги. В первом письме он объяснял, что пошел добровольцем, чтобы спасти от призыва Сала, однако впоследствии не упоминал об этом.
– Aiuta mi! Aiuta mi!
Надрываясь от горя, преследуемая призраками троих погибших сыновей, Терезина Коккалитти металась по кромке тротуара. Туловище ее нелепо раскачивалось, утренний ветерок трепал ее черные одежды. Добежав до угла, она развернулась и устремилась назад, восклицая:
– Aiuto! Aiuto!
Однако при первых же звуках ее голоса все окна на Десятой авеню мигом захлопывались.
Несчастная стояла теперь на мостовой, широко расставив ноги. Задрав голову, она проклинала всех и вся. Ради этого она вспомнила вульгарный говор родной итальянской деревни. Страдание стерло с ее худого ястребиного лица все следы хитрости и алчности.
– О, я знаю вас всех! – вопила она, обращаясь к закрытым окнам. – Вы хотели меня надуть – вы, шлюхи и дочери шлюх! Хотели обвести меня вокруг пальца, все хотели, но я вас перехитрила!