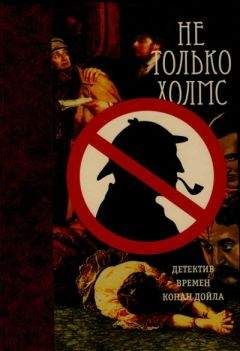— А, это ты, — со вздохом облегчения сказал Массимо.
Неудержимый людской поток увлек их за собой.
— Порой я задаюсь вопросом, что с тобой дальше будет, — сказал на ходу Федерико. — Ведь ты становишься все более раздражительным, замкнутым, настоящим брюзгой. Подумай, что с тобой будет в старости.
— Почему я должен об этом думать?
— Да потому, что, замыкаясь в себе, ты останешься совсем одиноким, бедный мой Массимо. Старым и одиноким среди равнодушной толпы. Без единого друга или знакомого, который бы хлопнул тебя по плечу и крикнул: «Привет, старина!»
— Это уж точно. Я ни разу не видел, чтобы старики хлопали друг друга по плечу с возгласом «Привет, старина!».
— Да, верно… Но ты чем-то расстроен? Какие-нибудь неприятности?
— Нет, все более или менее в порядке, — ответил Массимо. — Кстати, как ты здесь оказался? Ведь с твоей приятельницей из Бостона должна была поехать Анна Карла.
— Да, она тоже тут. Вернее, была, потому что куда-то исчезла. Мы договорились с ней встретиться попозже в кафе на площади.
— В каком кафе? На какой площади? Мне Лелло… ты знаешь моего друга Лелло?
— Знаю.
— Так вот, Лелло мне сказал: «Встретимся в кафе», точно здесь одно-единственное кафе. И вот я добрых полчаса прождал его в грязной дыре на маленькой площади и лишь сейчас узнал, что на другой площади тоже есть кафе.
— Ох уж эти женщины! — брякнул Федерико, который в этот момент думал об Анне Карле. — Между прочим, поскольку ты ее большой друг…
— Кого?
— Анны Карлы. Разве она не исповедуется тебе во всем.
— Ну, не совсем, но…
— Может, ты знаешь?.. Сегодня утром она показалась мне немного странной.
— Неужели? В каком это смысле?
— Какой-то мечтательной, витающей в облаках. Со мной она была сверххолодна. Вот я и хотел тебя спросить, не знаешь ли ты…
— Э, нет. А как же тайна исповеди?
— Значит, тайна есть?
— Не одна, а тысячи. Да нет, я шучу. Мне она ничего не говорила. Так где же это чертово кафе? Мы правильно идем?
— По-моему, да.
— На пьяццетта? Нечто вроде остерии? Кажется, есть.
— A-а! Видно, мои друзья спутали площади! — воскликнул Лелло. — Схожу посмотрю.
— Мне тоже туда, — не подумав, сказала Анна Карла. И объяснила, что должна вернуть колокольчик.
— Да? Как удачно! — со смущенной улыбкой сказал Лелло.
Только теперь она поняла, какую допустила бестактность. Какая же я кретинка! — упрекала она себя, пока они шли и беседовали о погоде. Как же я сразу не догадалась, что бедняга Ривера или Ривьера (она никак не могла запомнить точно его фамилии) лишь из уважения к ней упомянул о «друзьях», а не о «друге». Они придут на площадь, скорее всего, встретят там Массимо, и всем будет неловко.
— Только бы не пошел дождь. Я захватил плащ, но оставил его в машине, — сказал Лелло.
— Мне тоже надо было одеться потеплее, — сказала Анна Карла. Она лихорадочно подыскивала предлог, чтобы остановиться и попрощаться с Лелло, но узенькая улочка, по которой они шли, не оставляла для этого ни малейшей возможности… По сторонам, прислоненные к стенам домов, стояли новые и старые металлические сетки для кроватей, много сеток.
— Вы в «Балуне»… — начала было она, чтобы хоть сменить тему разговора.
— Вы в «Балуне»… — в ту же самую секунду произнес и Лелло.
Нет, светской беседы не получалось.
— Когда двое встречаются на рынке, они, естественно, задают один и тот же вопрос, — с улыбкой сказал Лелло. — Так вы в «Балуне» часто бываете?
А он отлично держится, этот Лелло. Ей бы не мешало призанять у него непринужденности. Иначе как она встретится с Сантамарией? А может быть, лучше позвонить и отменить свидание?
— Нет, не часто, — также с улыбкой ответила она. — Кстати, эти ваши друзья случайно…
— Осторожнее! — воскликнул Лелло.
Прямо между ними проехали две тележки, груженные сетками.
— Что вы сказали? — покраснев, переспросил Лелло.
— Собственно… — сказала она, ища в сумочке сигареты. Найдя их, она принялась искать зажигалку.
Лелло тут же вынул свою зажигалку. Легкий щелчок, и язычок пламени заколыхался у ее носа.
— Прошу.
— Благодарю вас, — ответила она, закурив. Она глубоко затянулась, вдохнула дым. — Я хотела спросить, ваши друзья — это случайно не Массимо? Со мной вы можете быть откровенным.
Прекрасно, одобрила она себя. Теперь я чувствую себя свободнее, раскованнее.
— Да, вообще-то… и Массимо… То есть один Массимо… Но я не хотел, как бы это поточнее выразиться, вмешивать вас… И я вам благодарен… предельно благодарен…
Слова тонули в шуме и грохоте, но несчастное выражение лица Лелло было красноречивее всяких слов.
А Массимо нигде не видно. Она, откровенно говоря, сомневалась, чтобы он стал ждать Лелло в этом темном «Кафе-вина» с полустершейся вывеской, на которое Лелло смотрел с такой надеждой.
— Ну что ж, — сказала она, ослепительно улыбаясь. — Передайте от меня привет Массимо. И давайте встречаться почаще. — Протянула ему руку и показала на вывеску «Красивые вещи». — Иду отдавать добычу, — засмеялась она. — До свиданья, дорогой синьор Ривера.
— Ривьера, — робко поправил ее Лелло.
Синьор Воллеро так и не ушел из «Балуна». Наткнувшись на этот старый винный погребок, где можно не опасаться встречи с кем-нибудь из своих клиентов, Воллеро решил переждать здесь, пока схлынет толпа покупателей. Он заказал четверть настоящей «барберы», которая, как он надеялся, придаст ему бодрости. Прежде чем войти в погребок, он, к счастью, заглянул внутрь. И сразу узнал человека, который направлялся к выходу. Он успел отпрянуть раньше, чем тот вышел из погребка. Налив себе еще «барберы», он снова, теперь уже задним числом, похолодел от страха. Поднял стакан и задумался. Нет, Кампи не был…
— Хорошее вино, — подбодрил Воллеро второго посетителя, сидевшего в углу за пустой четвертью. Кроме них, в погребке никого не было.
Нет, Кампи был не слишком выгодный клиент. Он купил у него лишь два пейзажа голландских художников и еще — в подарок своей матери — «Святое семейство», приписываемое Фра Паолино (1490–1557). Не густо. Но синьор Кампи знал всех, и все знали его. И если он кому-нибудь скажет…
Дверь со скрипом отворилась, и Воллеро испуганно вздрогнул. Уж не вернулся ли синьор Кампи? Нет. Это был молодой человек в желтом свитерке, хрупкий и белокурый. Он посмотрел на него пристально, огляделся вокруг, а потом сел за столик и мрачно обхватил голову руками. Синьор Воллеро точно помнил, что в его галерее этот блондин не бывал, и сразу успокоился.
Но действительно ли Кампи его не заметил? Пожалуй, да, ведь он молниеносно отпрянул назад.
Он выпил вино и поставил стакан на шатающийся стол. И тут взгляд его снова обратился к стеклянной двери.
Кто-то заглядывал внутрь, точь-в-точь как он сам, перед тем как войти. Но стекла были грязные, запыленные, и Воллеро различил лишь темную фигуру в стиле художника Маньяско. Скорее даже в стиле самых черных гравюр из цикла «Каприччос» Гойи. Любопытный незнакомец ушел, а вскоре, так ничего и не заказав, ушел и молодой человек. Синьор Воллеро заказал еще четверть.
— Хорошее вино, — сказал из своего угла старик, подняв пустой стакан.
Владелец «Красивых вещей», толстяк с круглым, добродушным лицом, сказал, что, если колокольчик ей нравится, он отдаст его всего за четыре тысячи лир. И даже готов его подарить. Но прежде хотел бы узнать у синьоры, почему она такая рассеянная? Она всегда такая или только сегодня?
Анна Карла засмеялась и ответила, что это секрет.
— Я догадываюсь почему, — со вздохом сказал толстяк.
В разговор бесцеремонно вмешалась худая, маленькая женщина в переднике и в накинутом на плечи черном платке.
— Синьоре, наверно, захотелось пошутить, — сухо сказала она и встала с табуретки. Взяла у мужа колокольчик и пошла положить его на место. Толстяк сокрушенно почесал голову и снова поблагодарил Анну Карлу.
— Представьте, я и не заметил пропажи, — сказал он смущенно.
— Зато я заметила, — вставила жена толстяка. — Как и то, что пропал пестик от ступки. Может, вы, синьора, от большой рассеянности прихватили заодно и его? — грубо сострила она.
— Что? — удивилась Анна Карла и посмотрела на свои руки. — Нет, не думаю.
Женщина не отрывала взгляда от сумки Анны Карлы.
— О каком ты пестике говоришь? — не понял муж.
Женщина ответила, что пропал пестик от каменной ступки, которая стояла на прилавке. А всего минуту назад был на месте.
— Это уж совсем идиотская шутка, — сказала женщина. — Сам по себе пестик ничего не стоит, но ступка-то восемнадцатого века!