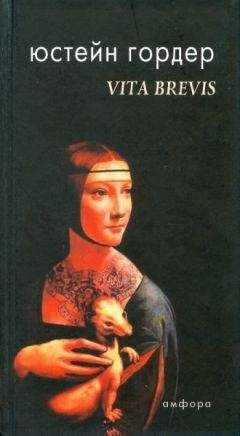Ознакомительная версия.
А уже после похорон решительнейшим образом заявил:
– Везите меня куда-нибудь, а не то наделаю я вам бед…
Наденька не желала слышать. Наверное, она вдруг потеряла веру и в Господа, и в мужа. И недосуг ей было заниматься тем, что она полагала новым его капризом. Собственное горе сломило эту достойную женщину.
Я примчался столь быстро, сколь сумел. И застал весьма тягостную картину.
Они оба были больны. Наденька замкнулась в себе, не видя никого и ничего. А Мишенька сделался беспокоен. Он то и дело сбегал из дому, весь день бродил по городу, чтобы после заснуть в каком-нибудь переулке. Несколько раз его принимали за бродягу, но, к счастью, вскорости оплошность разрешалась.
Он морил себя голодом.
И вновь повадился резать, нанося новые раны поверх старых… и признаюсь, мне стало страшно. Я будто побывал на развалинах чудесного строения чужой семьи. И никогда бы не пожелал никому испытать нечто подобное.
– Это все демон, – сказал мне Мишенька, когда я заговорил с ним о том, чтобы вернуться в клинику. – Ты видишь, что он со мною сотворил?
И убеждать его, что демон сей порожден лишь разумом его, было бессмысленно.
– Он всегда со мной, – Мишенька ткнул пальцем куда-то за спину, и я обернулся, но не увидел никого. – Он хочет, чтобы я вновь его написал. Но я не стану! Не стану!
Это он выкрикнул уже не мне, но тому существу, которое якобы незримо присутствовало при нашей беседе…
– Я больше тебе не поверю…
Все последующие годы прошли в борьбе с болезнью, которая, несмотря на немалые усилия, что прикладывал и сам Мишенька, и все, кто окружал его, побеждала.
Случались минуты просветления, которые складывались порой в часы, дни и даже недели, однако же они сменялись периодами темными, тягостными. Но и тогда Мишенька не переставал писать, он, будучи болен, позволил себе всецело отдаться единственному делу, которое, по мнению Усольцева, под чьим надзором Мишенька пребывал, являлось самою его сутью.
Что ж, может, однако, акварели не способны были избавить Мишеньку от спинной сухотки.
Он держался.
Пожалуй, нет иного человека, который был бы столь стоек. И до последнего вздоха не желал бы признавать себя больным. О нет, он осознавал неизбежность смерти, но теперь едва ли не ждал ее, потому как видел в смерти избавление и для себя, и для Наденьки…
Мужественная женщина.
Она не отступилась до последнего, и каждую минуту, свободную от театральных забот – а ей пришлось вернуться в театр, потому как содержание Мишенькино в клинике Усольцева обходилось весьма недешево, – проводила рядом с мужем.
Увы, и ее самоотверженность не способна была одолеть болезнь.
Наденька пережила его на три года.
И они оба успели еще застать перемены, когда Мишеньку вдруг провозгласили гением, которому случилось опередить время. О нем вновь писали и дали академическое звание, но эта вершина больше не была нужна тому, кто большую часть дня пребывал в мире грез.
Тягостно писать о чьем-то угасании.
Пусть и работал он до последнего… даже когда ослеп, продолжал писать, и это удивляло многих. Я же видел в том единственный известный Мишеньке способ вновь ощущать себя здоровым.
Что ж, ни одна война не длится вечно.
И Мишеньки не стало 1 апреля 1910 года.
Накануне он так и сказал мне, когда я, будто предчувствуя беду, навестил его. Признаюсь, не было у меня надежды, что застану его вне мира грез, где Мишеньке было куда уютней, нежели в обычном, но мне повезло.
– Здравствуй, друг, – Мишенька был весел, и даже малярия, подхваченная им, будто спинной сухотки не хватило, не смогла сломить его дух, – я рад, что ты заглянул. Мне надобно привести себя в порядок.
– Для чего?
– Довольно мне уже лежать здесь, пора вернуться в Академию…
Он попытался сам сесть, но был слишком слаб.
– Я прожил жалкую жизнь, верно?
С ним случались приступы самоуничижения, которые, впрочем, сменялись маниакальной же уверенностью, что он – гений. Благо ныне то твердили многие.
– Теперь я вижу…
Он был слеп, но… показалось вдруг, что и вправду видит.
– Мне не следовало сходить с пути Божьего…
– Глупости ты говоришь.
– Не глупости… я выпустил своего демона на волю, а совладать с ним не сумел… но это все пустяки. Расскажи мне, как оно…
Я пробыл до позднего вечера, пересказывая Мишеньке последние новости, стараясь, чтобы средь них не было дурных или способных вызвать волнение, он же слушал с улыбкою и выглядел таким… умиротворенным.
А наутро нам сообщили…
И наверное, эта новость пусть и была печальна, но при всем том я испытал немалое облегчение. Я словно получил свободу.
Странно.
Он ведь никогда не просил меня быть рядом и вовсе не замечал порой, а я сам… теперь вот о свободе. Похоже, что и у меня имелись собственные демоны.
Сумел ли я одолеть их?
Не знаю.
Главное, что он покоится с миром.
Как я надеюсь…
День не задался с утра.
Бывает такое.
Проспала. И собиралась наспех, поэтому утро обошлось без кофе. Потом был забег по лужам и мокрые туфли, от которых на плитке оставались следы, к вящему негодованию бабы Нюры. Негодование это она на Людмилу выплеснула охотно. Она вообще охотно делилась негативными эмоциями.
И стоило ли ждать от такого дня чего-то, помимо проблем?
Раздраженные пациенты, и Леночка, которая приболела некстати, а потому Людмиле пришлось взять на себя и работу медсестры. Жалобы… завотделением, желавший немедленно кого-нибудь покарать… к вечеру Людмила с трудом на ногах держалась.
Как бы там ни было, к автобусной остановке она едва тащилась, и даже вид автобуса, медленно выползающего на дорогу, не заставил прибавить шагу. Да и к чему бежать, когда все очевидно? В завершение дня Людмиле предстоит небольшая пешая прогулка.
А что, полезно для здоровья.
И голову проветрить стоит. А то завелись в этой голове в последнее время мысли не той направленности. Это все соседка дорогая с ее сочувствием и неисполнившимися матримониальными планами, с любопытством неудовлетворенным. Все ей кажется, что Людмила замолчала что-то, пересказывая чужую историю.
К дому Людмила подошла уже в сумерках.
И на лавку у подъезда упала… сирень цвела пышным цветом. Ее еще Людмилина мама сажала… давно было. Мама бы не одобрила Людмилино бездействие.
И пассивную жизненную позицию.
И вообще…
Людмила закрыла глаза, наслаждаясь минутой тишины. Тяжесть прошедшего дня отступила. И стало… спокойно.
– И долго так сидеть собираешься? – не очень-то вежливо поинтересовались над ухом.
– Не знаю, – ответила Людмила, не открывая глаз. – А что?
– Ничего. В компанию примешь?
– Садись.
На лавке хватит места для двоих.
– Когда ты приехал?
– Сегодня. – Стас закурил.
– Зачем?
Месяц ни слуху ни духу… и вообще этот его поспешный отъезд, который больше бегство напоминал. А теперь вот вернулся.
– Не знаю, – сказал он. – Просто… как-то вот… подумал, что расширяться мне пора. А филиал здесь – вполне удачная идея…
Расширяться, значит.
Почему нет… предлог пристойный.
– Пока тут поживу. – Стас окурок бросил на землю.
– Не мусори.
– Не буду. Ты не против?
– Чего? Твоего расширения?
– Нет, моего присутствия… в целом, так сказать.
А если Людмила скажет, что против? Не потому, что действительно против… ей вообще все равно. Наверное, все равно… или не стоит душой кривить?
– Не против.
– Хорошо, – Стас окурок поднял. – Тогда, быть может, поужинаем? Я подумал, что если вечер, то ты голодная… пиццу заказал. Ты пиццу любишь?
Вредную еду? Еще бы…
Людмила поднялась. Загадывать что-то на будущее она не станет. С будущим всегда неясно, а вот настоящее может быть разным.
Почему бы и не попробовать? Хотя бы пиццу для начала.
Из воспоминаний К. Коровина.
Воспоминания Л. Ковальского.
Речь идет о «Надгробном плаче», созданном в шести вариантах. Сохранились четыре.
Из письма Врубеля сестре Анне, от 22 мая 1890 года.
Из воспоминаний К. Коровина.
Ознакомительная версия.