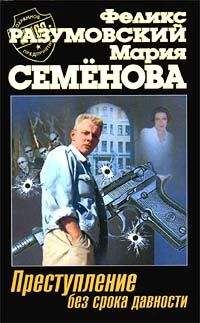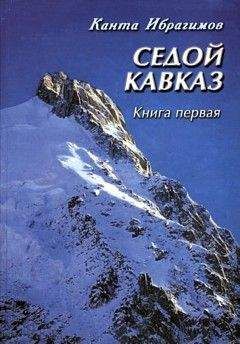Миновав перрон, Шалаевский спустился по ступенькам на землю, и в глаза ему сразу же бросились грозные буквы плаката: «Стой! По путям не ходить. Опасно для жизни!» «А куда ходить?» Он огляделся по сторонам и, заметив на фоне неба подвесной переход, до которого было топать и топать, не раздумывая двинулся по шпалам — жить, говорят, вообще вредно.
Где-то свистел маневровый тепловоз, от бурых луж на щебенке знакомо пахло танковым парком, и Шалаевский не сразу понял, что три фигуры впереди направляются по его душу. Одна в милицейской форме, другая в железнодорожной, а на третьей был напялен пиджачишко со свекольной повязкой на рукаве, украшенной надписью «Контролер».
— Документы. — У мента были две «сопли» на погонах, шея в прыщах и паршивые рыжеватые усики, а когда он взялся за паспорт Шалаевского, обнаружилось, что ногти у него сплошь изъедены грибком. — Так, Березин Дмитрий Александрович. Почему нарушаете, гражданин? За хождение по путям положен штраф! Пройдемте-ка в отдел, будем составлять протокол.
Он легонько ухватил нарушителя за локоть, железнодорожник одобрительно кивнул давно не стриженным черепом, а контролер-общественник икнул и авторитетно подтвердил:
— В натуре.
— Мужики, протокол-то зачем? — Шалаевский раздвинул мохнорылость в понимающей улыбке и, изобразив всем видом крайнюю доброжелательность, незаметно подмигнул сержанту — Что мы, не люди, что ли? Раз виноват, отвечу, на хрена еще бумагу-то марать..
— Гм. — Многозначительно хмыкнув, общественник глянул на железнодорожника, тот покосился на мента, а милицейский посмотрел наверх, где кучковалась на переходе любопытствующая публика, и крепче ухватил задержанного за локоть:
— Что значит «не надо протокола»? Мы взяток не берем, все знают.
— В натуре. — Обиженно шмыгнув носом, общественник тягуче сплюнул, а лохмач в фуражке подтолкнул Шалаевского в спину.
— Двигай, мужик. Из-за таких, как ты, поезда сходят с рельсов.
— Ну надо так надо. — Пожав плечами, тот посмотрел на любознательный народ на переходе и, в корне задавив желание размазать конвоиров по щебенке, побрел в их окружении к вокзалу. — Я чего, мужики, против разве?
В помещении линейного отдела было неуютно — шумно, суетно и вонюче. Пахло табачным дымом, бомжами и блевотиной. Заливисто храпел в «тигрятнике» бухой рыболов-охотник, словивший по рогам интеллигент пускал кровавые сопли и жаловаться прокурору, похоже, передумал, а возбухавший было военмор уже заполучил в пятак и тихо дожидался представителя комендатуры, — так-то, милый, командуй у себя на барже.
— Вот здесь посиди пока. — Сержант подтолкнул Шалаевского к скамье у входа и, ухмыляясь, двинулся к барьеру, за которым восседал немолодой уже старшина помдеж. — Митрич, выпиши-ка ему на всю катушку, взятку, гад, хотел дать, оформлять, говорит, не надо…
— Ну и взял бы, не доставал бы меня хреновиной всякой. — Тот с мрачным видом вытащил бланк протокола и, покосившись на сержанта, вздохнул: — Уже месяц форму носишь, а все щегол щеглом, клювом щелкаешь. Вот, поучился бы, как работать-то надо. — Он с отвращением отпихнул паспорт в сторону и, чиркнув спичкой, шумно затянулся. — Васька Гусев только что трофейщика слепил, взял с поличным, полный рюкзак стволов. Задал операм работу. — Он махнул рукой в сторону таблички на двери: «Инспектора» — и, ткнув окурок в переполненную пепельницу, презрительно уставился на рыжеусого: — А ты только и знаешь, что мудаков всяких таскать, от которых писанина одна. Зачем они нужны, если все идет в башню? — Он показал рукой наверх, дождался, пока рыжеусый с подручными отчалит, и, разломив паспорт надвое, мрачно глянул на Шалаевского: — Эй, Березин, ближе подойдите. Что ж вы нарушаете, грамоте вас, что ли, не учили? Везде написано: по путям не ходить, а вы все прете, даром что москвич…
Внезапно он замолчал, прищурился, и в голосе его появились грозные нотки:
— Ну-ка очки снимите, повернитесь, э, да это же не ваш паспорт-то! Павел Ильич! — Окликнув дежурного по отделу, он начал подниматься из-за стола, но не успел — с легкостью перемахнув через барьер, Мочегон глубоко вогнал ему в ухо шариковую ручку.
— Ты чего, Митрич? — Подйяв глаза от бумаг, молодой, но уже лысеющий старлей лихо развернулся на стуле, и последнее, что он узрел в своей жизни, был чугунный кулак, раздробивший ему носовую кость, так что острые осколки проникли в мозг.
«Сидеть. — Поддержав обмякшее тело, Мочегон убрал многострадальный паспорт в свой карман и, дернув из-за пояса ПБ, что означало ствол бесшумный восьмизарядный, дослал в патронник девятимиллиметровый патрон. — Заварилась каша…» И еще какая!
— Паша, как у нас с транспортом? — Дверь с надписью «Инспектора» открылась, и появившийся в дежурной части крепыш без промедления схватился за ПМ — сразу врубился, опер все-таки.
Пук — с легким хлопком, будто книгу уронили на пол, пуля вошла ему между глаз, звякнула отстрелянная гильза, и, сноровисто ухватив жмура за галстук, убийца мягко приземлил его, — «баюшки-баю, встретимся в раю».
— Коля, тебя жена к телефону. — Из кабинета оперов выглянул лобастый дядька, и, положив его прямо на пороге, Мочегон незваным татарским гостем проскользнул внутрь. «Вот оно, горе от ума, пол будет не отмыть от мозгов…» За инспекторской дверью находились два стола, сейф и прикованный к трубе россиянин.
— Не шмаляй, у меня лайба рядом. — Тот был бледен, жилист и совсем не дурак. — Говорю, нихт шизен, если что, помогу с документами.
— Твое? — Мочегон обвел взглядом «парабеллумы» на столе и, наклонившись к безмозглому оперу, принялся шмо-нать его. — Воевать собрался?
— Другие собрались. — Прикованный пожал плечами и звякнул наручниками о трубу. — Машина в двух шагах. Уйдем вместе.
— Было бы куда. — Мочегон отомкнул «скрепки» и, дернув за рукав, поставил нового знакомца на ноги. — Веди. Если что, я не промахнусь.
— Момент.
Выдержка у того была что надо. Он кинулся к незапертому сейфу, извлек не первой свежести рюкзак и принялся грузить в него оружие со стола. «Даром, что ли, парился здесь!» Достал ПМ из кобуры убитого, дослал патрон и, сдвинув язычок предохранителя, сунул ствол за пояс — пригодится, дорога длинная.
На улице уже сгустился вечер, фонари горели через одного, и, миновав перрон, спутник потянул Мочегона к зловещему транспаранту: «По путям не ходить». Двинулись по ним быстро и в молчании, а на полдороге случилось то, о чем Шалаевский только и мечтал последние два часа. Впереди замаячил желтый луч фонарика, затем появилось трио станционных богатырей, и тот, что был из рода легавого, возвестил:
— Стой! Милиция! По рельсам не ходить, — а признав Шалаевского, охренел: — Значит, пошел на принцип, мужик? Пойдешь у меня на пятнадцать суток!
Фонарь сержант держал неграмотно, отчетливо определяя свои зоны поражения, и, с наслаждением кастрировав его сильнейшим поддевающим ударом, Мочегон проломил висок железнодорожнику и до кучи вышиб челюсть активисту с повязкой. Все это стремительно, с предельной концентрацией, только резкие выдохи да хруст щебенки под ногами — жуть! И снова дорога вдвоем, в молчании, под звяканье железа в рюкзаке.
— Да, на гуманиста ты не тянешь. — Наконец, обогнув по большой дуге привокзальную площадь, спутник вывел Шалаевского к зеленой «девяносто третьей», снял ее с охраны и, уже тронувшись с места, показал желтые прокуренные зубы. — И это правильно. Люди — звери.
— Очень даже. — Шалаевский осторожно попробовал, хмыкнул и одобрительно посмотрел на своего нового знакомца. — Похоже на борщ.
Звали того Петруччио, по-нашему Петей, по профессии он был отставной комсюк и, несмотря на это, Лаврентию Павловичу нравился. Он ругал по-черному коммунистов, крыл трехэтажным матом демократов и вообще называл всех людей сволочью. Зато не обманул и сделал классные корки на имя Колунова Трофима Ильича, который жил себе до перестройки в Приднестровье, а затем подался куда глаза глядят. Давайте, менты, проверяйте.
В городе пока не светились, торчали в садоводстве под Лугой — общались с природой-мамой; выпив водки, драли по очереди безотказную соседку Верку, и Шалаевский все никак не мог въехать, какого хрена Петруччио от него надо.
Казалось бы, все ясно: вот тебе, кореш, ксива за отмазку, сколько-то денег на подъем, и линяй себе куда знаешь. Нет, говорит, живи сколько хочешь, все у нас с тобой, брат, в перспективе.
Туманная перспективка-то: «Товарищ, товарищ, не видно ни зги! — Идите вперед, не е…те мозги».
Петруччио разливал «Посольскую», Шалаевский наполнил миски борщом и, не чокаясь, хватанул залпом. «Холодненькая, а душу греет. За удачу». Зажевали салом с чесночком, повторили, и, посыпая хлеб крупной солью, принялись хлебать борщ, наваристый, с золотистыми колечками жира. Дуя на пальцы, потащили из углей печеные картофелины, разложили на газетке перламутровую на разрезе скумбрию и, приговорив водочку, стали пить чай — с малиновым вареньем, под разговор.