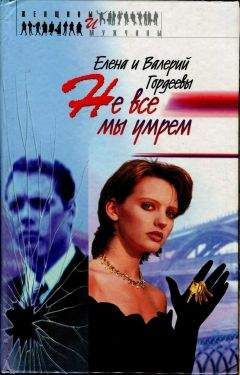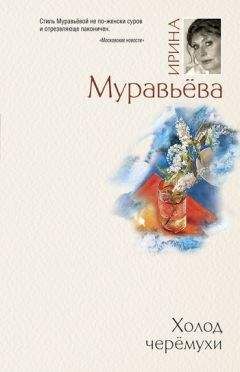Мокрухтин высыпал прах члена РСДРП(б) на землю, а ветер и дожди довершили дело.
К выходу Евгения повела их другой дорогой — мимо могилы матери и бабушки. Она чуть замедлила шаг, повернула голову к памятнику и одними губами едва прошептала:
— Спасибо.
Никто ничего не услышал, кроме, конечно, Германа. Но он и виду не подал, только про себя отметил: Ильина Вера Васильевна — мать, а Ильина Анна Петровна — бабушка, та самая, которая дворянка. Теперь они будут покоиться на одном кладбище вместе с Мокрухтиным. Такой парадокс!
По дороге на дачу Антон сказал:
— Ну конечно! Как я раньше не догадался! Все зависит от силы звука. Плеер — это вам не оркестр. Поэтому она и не открылась.
Евгения лишь улыбнулась: хорошая мысля приходит опосля.
Евгения долго не могла уснуть, все ворочалась в кровати, переживая события ушедшего дня. Наконец встала, оделась, спустилась по лесенке вниз и села на крылечке.
Антона и Германа целый день не было; забросив ее на дачу, они исчезли до вечера. Евгения догадывалась, чем они занимались: изучали архив Мокрухтина.
Вечером мужчины появились — веселые, радостные, сели за стол на кухне, разрешив Лентяю лечь рядом с ними, по очереди наклонялись и трепали его за холку, всячески выражая ему свое расположение, как будто это он нашел архив. Евгения думала, что это в общем-то правильно — не станут же они ее трепать за холку? Но про архив ей ничего не говорили, а она не спрашивала, хотя и умирала от любопытства.
«Может, от этого и бессонница? — думала она, глядя на темный сад, проколотый светом звезд. — Тогда попробуем проникнуть в архив силой мысли».
Водолаз черным шаром раздвинул, шурша, траву, подкатился к ногам и расплющился — лег. От него резко пахло полынью. Евгения сразу поняла, в каком углу сада он возился. Так неужели она не догадается, что в архиве?
«Ну, во-первых, там все подлинники договоров с различными фирмами. Цена им — миллион. Во-вторых, два договора с Зинаидой Ивановной. Их стоимость, конечно, намного меньше, но для самой Зинаиды Ивановны они бесценны. А вот видеокассет там нет», — это она отметила, когда Герман рассовывал бумаги по карманам.
Но она видела какие-то фотографии.
«На снимках, скорее всего, Соколов — анфас, в профиль и в разные периоды жизни. Неужели это так обрадовало Ежика? В принципе он знает, что Михаил Михайлович — это Олег Юрьевич. Для Ежика установить, кто такой Олег Юрьевич, несложно. Отчего же так много ласки получил Лентяй? Ежик даже косточку из борща вынул и дал ему».
— Лентяй, а Лентяй, — потрепала она пса за холку — ты почувствовал, как тебя сегодня любили?
— Ррр…
— А знаешь почему? Потому что ты нашел нечто, что важнее даже косточки из борща. Не станут же они так сиять только оттого, что убрали Соколова? Нет, Соколов жив. А они сияют. Значит, дело не в Соколове.
— Ррр…
Сдавленный смех раздался за спиной Евгении; Герман слышал, как она вышла из комнаты, выглянул из открытого окна — женщина сидела на крылечке, — как тогда, на ее даче. Он тихо спустился и сел на ступеньку повыше — так тихо, что она, занятая своими мыслями, ничего не услышала, хотя он находился в метре от нее.
— Не спится, Евгения Юрьевна?
— Любопытство замучило, Герман Генрихович.
— Спрашивайте. — Герман пересел на ступеньку рядом с ней.
— Вам очень нужны договоры Завьяловой Зинаиды Ивановны?
— А вам зачем?
— Хочу их вернуть Зинаиде Ивановне.
Герман молчал, а Евгения начала объяснять, боясь, что он ей откажет:
— Нет, я нормальная женщина, и восторга от того, что она уводит у меня мужа, я не испытываю. Но она не отбивала у меня мужа — я сама, убив Мокрухтина, оттолкнула его от себя. Чувствую свою вину, хочу вину искупить, вернуть Зинаиде Ивановне свободу и таким образом снять между ними последние преграды. — Тут она вздохнула.
«Неужели она его любит? — подумал Герман. — Или наоборот, хочет их сближения, потому что не любит его?» — и решил уточнить:
— Вы не признались ему сразу, потому что боялись ненависти?
— Может быть, может быть… — Евгения хотела уклониться от ответа, но вдруг передумала: — Человек слаб, очень слаб, и взваливать на него такой груз — это согнуть его до земли. Кто выдержит?
— Понимаю, — рассмеялся Герман. — Вы взвалили эту ношу на меня. Очень вам признателен за доверие.
Евгения тоже рассмеялась:
— Ну должна же я хоть перед кем-то исповедаться! Почему бы не перед вами? Вы же не упадете в обморок, если я вам скажу, что, убивая Мокрухтина, я не испытывала никакой жалости и что убить человека так же легко, как проткнуть бурдюк с вином? Пропорол шкуру — и вино полилось наружу. Вино красное, пузырится, шипит, а бурдюк хлюпает, когда из него жизнь уходит. — Евгения передернула плечами. — Но не будем об этом говорить. Садистским комплексом я не страдаю.
Герман понял, что дело отнюдь не в том, любит она Михаила Анатольевича или не любит, а в том, что как личность она больше мужа настолько, что боится его раздавить.
— Вот вы — боитесь меня? — озадачила она Германа вопросом.
— Я? — удивился Герман. — Нет. — И Евгения почувствовала его улыбку в темноте по интонации, с которой он сказал «нет».
— А вы ведь знаете еще и про Болотову, и про Авдеева — и не боитесь. А Михаил Анатольевич даже про Мокрухтина не знал, но все равно боялся.
— Я думаю, он боялся не вас.
Евгения прекрасно поняла, что он имеет в виду, и усмехнулась:
— Неужели умение связно думать производит на людей такое устрашающее впечатление?
— Рррр! — откликнулся водолаз.
— Совершенно с ним согласен, — подхватил Герман. — Устрашающее! Но мне нравится.
— Возможно, вам нравится потому, что это качество помогает вам в вашем деле?
Герман ответил уклончиво:
— Возможно.
— Ну раз так, — заключила Евгения, — отдадите договоры?
— Отдам, — засмеялся Герман.
Евгения испытывала удивительное чувство: с одной стороны, она умерла, а с другой — сидит на крылечке и откровенничает с малознакомым человеком, но самое поразительное — откровенничает с необыкновенной легкостью о самых потаенных чувствах. Она поразилась себе самой. Может быть, теплая ночь, звезды на небе или воздух, напоенный ароматом трав, так на нее действуют? Или Лентяй, задирающий голову и тычущий мокрым мягким носом ей в коленку? Чудно — она пса действительно полюбила! С чего бы это?
Днем Евгения всегда была на даче одна; мужчины после завтрака сразу уезжали и появлялись лишь к ужину. И таким образом Лентяй сделался ее товарищем. Она не только читала ему Канта и кормила от души, но и купала, расчесывала; труднее всего ей давался хвост, где шерсть была вперемешку с репейниками.
Опустив руку, Евгения нащупала ухо собаки и почесала за ним. Лентяй как ждал условного сигнала — его огромная башка поднялась с лап и опустилась на колени женщине: «На, чеши сколько хочешь! Мне это нравится».
— А вам в первый раз страшно не было? — доверчиво спросила она Германа.
Сначала он хотел промолчать, но вспомнил ее широко открытые зеленые глаза, наивное их выражение, и понял, откуда оно, — из детства, которое было внезапно прервано, и сейчас у него спрашивает этот самый четырнадцатилетний ребенок, не ответить которому нельзя, поэтому он передумал и ответил:
— Нет. Не страшно было. Я солдат.
— Я так и думала, — а это уже говорила Евгения Юрьевна, с которой надо держаться начеку.
— А еще что вы думали?
— Что вы хотите узнать, почему я убила спустя столько лет? Я угадала?
— Да.
Евгения обратила внимание, что на некоторые вопросы Герман отвечал односложно: «да», «нет», «возможно», — чаще всего на те, которые касались лично его. Но как последний вопрос о ней может касаться его персоны? Евгения повернула к нему голову, но слабый свет звезд не давал возможности разглядеть его лицо, а выражение лица — подавно.
— Если вам трудно, не рассказывайте, — щадя ее, сказал Герман. — Я догадываюсь, что он сделал.
Евгения возразила:
— Нет, вы не догадываетесь. Догадаться невозможно. Он меня ударил бутылкой по голове, вот сюда. — Она взяла его руку, и его пальцы нащупали шрам под ее волосами. Этот жест был настолько непосредственным, что он почувствовал, что перед ним опять ребенок. Взрослая женщина Евгения Юрьевна себе бы этого не позволила. — С тех пор я волосы зачесываю набок.
Она смотрела в темноту перед собой, вспоминая о том, что случилось с ней шестнадцать лет назад.
— Очнулась я в маленькой комнате, потому что в соседней кто-то жутко закричал. Я доползла до двери и в замочную скважину увидела, как мужчина насилует девочку, а потом он вдруг повернулся и сказал кому-то:
— Сдохла!
Это был Мокрухтин.
К нему подошли еще двое, один зажал ей нос. Она не шевельнулась.