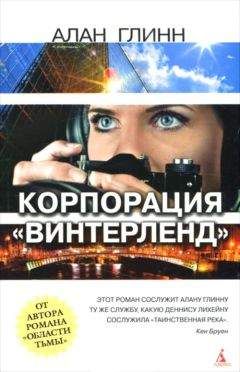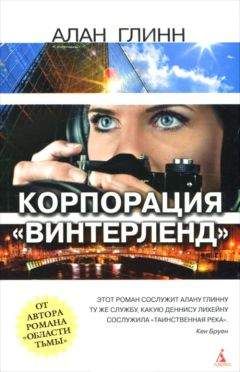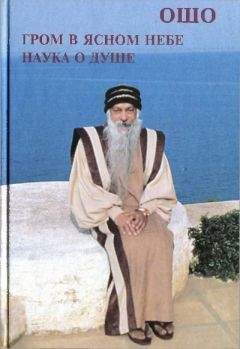На самом деле Нортон восхищался им.
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
Ни о каком компромиссе и речи быть не могло. Потому что в хваленой «позиции» Фрэнка не было ничего нового. Данброган-Хаус — наше наследие, твердил он; шар-баба разрушит не только здание, но и частичку нашей культуры. И так далее в том же духе. Потом слегка дрожащим голосом добавил, что не потерпит запугивания и угроз. Он понимает, что отец тоже не в восторге от его взглядов, но для него это дело принципа. Поэтому он намерен, во-первых, продолжить кампанию против изменения вида землепользования; во-вторых, обнародовать сомнительные результаты голосования за некоторых депутатов; а в-третьих, публично отчитать отца Мириам за то, что он вообще продал этот участок. И извиняться он не собирается.
Нортон посмотрел на него с сомнением.
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
Он вроде бы тогда сказал — не знаю даже, мол, плакать мне или смеяться.
Но засмеялся Фрэнк, и засмеялся нервно. Потом перевел взгляд на часы.
— Ладно, — подытожил он. — Я просто хотел, чтобы вы были в курсе. Во избежание дальнейших недоразумений. — Он откашлялся, начал подниматься. — Что ж, мне пора. Не хочу опаздывать.
Нортон небрежно махнул рукой.
— Успеете, — проговорил он. — На дорогах сейчас пусто. Долетите как миленький.
К горлу, как рвота, подступила паника. И тут ему приходит в голову.
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
А что, если попробовать?
— Знаете, — сказал он, — Фрэнк, спорить я с вами не стану. Вижу, это бессмысленно. Но хочу поблагодарить за визит. Я уважаю вашу честность. — Он задумался. — Могу я предложить вам выпить на дорожку? Мировую, так сказать?
Фрэнк засомневался, потом сказал:
— Ладно, почему бы и нет?
— Отлично. Я… я сейчас.
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
Нортон вышел из кухни. Бар находился в гостиной. Но он сначала поднялся наверх, в спальню, подошел к тумбочке Мириам, взял бутылку снотворного, открыл ее, вытряхнул на ладонь одну таблетку. Потом спустился вниз, в гостиной приготовил два коктейля: виски с каплей содовой. Раскрошил таблетку между пальцами и высыпал ее в бокал Фрэнка. Она мгновенно растворилась. Он толком не знал, что делает; сработает или нет; и если сработает, то как. Но делал, потому что находился в отчаянном положении. Фрэнк Болджер был порывист и наивен, но популярен. Было что-то в нем такое, что влекло людей: его слушали, ему внимали…
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
Нортон принес бокалы на кухню, передал один из них Фрэнку и поднял свой:
— Будем здоровы.
— Будем.
Через несколько минут Фрэнк Болджер ушел. Сел в машину. Выехал на шоссе в сторону аэропорта.
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
По шоссе на север. Через некоторое время — в глазах уже двоилось, они закрывались и засыпали — вошел в резкий поворот, а оттуда навстречу другая…
Тыдын-тыдын, тыдын-тыдын, тыдын…
Нортон открывает глаза.
И столь же внезапно, как появился, поезд исчезает, а он продолжает пялиться на Стренд-роуд поверх шлагбаума.
Теперь уже бессмысленно, безумно.
Он так давно не вспоминал об этом: ни в целом, ни в деталях. Никак.
Шлагбаум поднимается, боль возвращается…
Как просто было бы сейчас смириться, вырубиться, потерять сознание…
Но правая рука и кисть нечеловечески напряжены: они прижимают к шее острую черепушку. И сознание не теряется.
В нескольких футах от него охранник: подпирает стену, пожевывает губешку, подергивает ногой, ждет.
Сначала он лихорадочно передал указания Марка по рации, поднял ее, прислушался и изрек:
— Ждем несколько минут. Две-три. Не больше.
А как насчет того же самого в секундах? Сто восемьдесят.
Целая, блин, вечность.
Прошло уже больше.
Чуть-чуть подальше люди. Стоят и смотрят. Расплываются.
Теперь у него все расплывается перед глазами.
Струйка крови от ног пробирается к лужице, натекшей из разорванного инфузионного мешка, и скоро они смешаются.
Марк обращается к охраннику:
— Скажи, пусть поторопятся.
Теперь болит не только грудь; теперь болят плечо и левая рука.
Он с трудом опускает ручник, с трудом берется за ручку передач. Придурок сзади достал сигналить. Нортон собирается и худо-бедно сдвигается с места — через пути и налево.
Вот он уже на коротком трехполосном участке дороги, откуда до моря рукой подать. Но боль усиливается. Временами она становится невыносимой. Перед глазами лишь слепящий белый свет.
Он снова собирается.
Справа, перед большим серым домом, замечает стоянку. Не включая поворотника и не поворачивая головы, делает резкий и неизящный вираж, паркуется.
Машина сзади опять сигналит и проезжает мимо.
Нортон закрывает глаза. Вздыхает — долго и тревожно.
Джина доходит до конца набережной, разворачивается, идет обратно к башне Мартелло. За ней маячит другая башня — Ричмонд-Плаза. Мерцает в тумане, призрачно поблескивает белыми точками, как будто она лишь мираж. Как будто Джина не знает, что там уже наяривают сварщики: трудятся круглые сутки, ремонтируют.
Она отворачивается. Ей дурно при мысли, что она все это заварила. Как в кошмарном сне, непостижимым и невероятным образом влезла в дела брата и послала ко всем чертям мощный инженерный проект. Ох, лучше бы это было кошмаром.
Она окидывает взглядом залив.
Опускает глаза на часы.
Но это не сон.
Останавливается у скамейки, садится.
В отдалении сигналит машина — несколько нетерпеливых гудков.
Она достает из кармана звезду, держит на ладони, разглядывает.
Миллефьори.
Тысячи цветов. И что она надумала? Жахнуть его по башне тысячью цветов?
Боже мой, сокрушается Джина.
Безнадежно. Безумно.
Всматривается во вздымающуюся мглу моря.
Встает, убирает пресс-папье в карман, шагает обратно к концу набережной, переходит на тротуар, идущий вдоль шоссе.
Нортон открывает глаза, пытается разглядеть, что вокруг.
В нескольких футах от него стоит машина, за нею — еще несколько. Дальше уже идет набережная.
И…
Он подается вперед и всматривается.
И… Джина…
Она от него ярдах в ста, не больше, там, где кончается променад. Шагает в его сторону.
Это она, кто ж еще.
Черт!
Он тянется к бардачку, открывает его.
Если удача хоть немножко подсуетится, он сможет выстрелить, не выходя из машины. А потом только его и видели, никто не успеет даже…
Он нажимает кнопку, окно с легким жужжанием открывается.
Он смотрит вперед. Она приближается, медленно, но верно.
Он прижимает руку к груди.
Мать моя женщина, ну сколько можно!
Раздается треск, охранник подносит рацию к уху:
— Слушаю?
Марк дернулся вперед, он силится услышать, нервы на пределе.
Охранник роется в кармане, извлекает книжку, ручку.
Марк в нетерпении.
Он поворачивает голову.
В дальнем конце коридора, за серией дверей, наметилась активность. Но далеко — не разобрать.
Марк смотрит на охранника:
— Давай.
Охранник вырывает из книжки страницу, делает шаг вперед. Он нервничает, руки расставил в стороны. Будто собирается просунуть мясо льву сквозь прутья клетки.
Свободной рукой Марк хватает листок и кладет рядом с собой на скамейку.
Той же рукой вылавливает из кармана мобильник. Оглядывается и быстро набирает номер.
Куда запропастился чертов Нортон?
Он вроде должен идти отсюда.
Она шагает дальше.
Впереди припаркованные машины, но чем-то они ей не нравятся.
В кармане джинсов вибрирует мобильник.
Вдруг Нортон?
Она вытаскивает телефон.
Однако номер незнакомый.
Блин!
Не знает, отвечать, не отвечать. Ну почему сейчас? И все равно подносит трубку к уху:
— Алло?
— Джина?
Не может быть!
— Марк?! — Она поворачивается лицом к морю; внутри у нее тоже что-то сдвигается. — Слава богу, ты в порядке.
«Ой ли?» — размышляет он, буквально ввинчивая в ухо телефон. Конечно, не в порядке, настолько не в порядке, что он и слова из себя не может выпихнуть.
А надо. До сих пор он произнес лишь только «Джина».
А надо больше.
— Слушай, — произносит он. Каждый слог дается ему с превеликим трудом; он не уверен в том, что сдюжит. — Держись подальше от Пэдди Нортона. Не ходи на встречу с ним…
Он ошарашил Джину — не столько тем, что знает о происходящем, сколько тоном. Приказным. С недавних пор она, кроме приказов, ничего не слышит. Причем с частицей «не»: не делай то, не делай се…
Она не мазохистка. Это ей не по душе.
И все же… все же…
Разве его приказ не отличается от прочих? Разве его приказ не должен от них отличаться? Разве из всех людей он не единственный, к кому ей следует прислушаться?