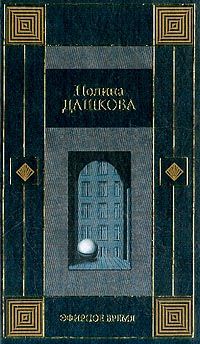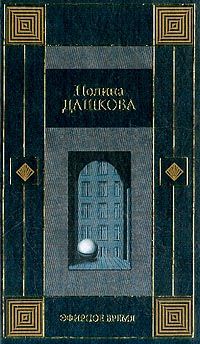– Я понимаю, что никаких прав на тебя у меня нет, – тяжело дышала ей в ухо трубка, – но и ты пойми, как мне больно. По телефону ты сказала, что тебя шантажируют. Но прости, при таком образе жизни совсем не сложно нарваться на шантаж. Ты сама подставилась. Советую впредь быть осторожней.
– Юра, что ты говоришь? Какой образ жизни? Какая осторожность?
– Лиза, не надо врать хотя бы себе самой. Ну да, случилось. С кем не бывает?
– Он усмехнулся. – Я, старый идиот, на что-то надеюсь. Строю всякие лирические иллюзии, а оказывается, все так просто…
– Юра, перестань. Я приеду, мы поговорим. Прошу тебя, не относись к этому так серьезно.
– Прости, я человек старомодный, но ломать себя, подстраиваться под нынешние небанальные представления о любви и дружбе мне сложно. Возраст не тот. Я не могу к подобным вещам относиться спокойно. Возможно, это покажется тебе смешным, но представь, что мне очень больно было увидеть, как женщина, которую я люблю, кувыркается в койке с чужим мужчиной.
– Значит, ты не допускаешь мысли, что на этой кассете не я?
– Я еще не сошел с ума. Это ты, Лиза. Тебе там очень хорошо, просто отлично. Вы с этим суперменом удивительно подходите друг другу как половые партнеры. В дверь опять постучали.
– Мам, ну ты скоро? – недовольно поинтересовался Витя. – Надя во второй раз греет пиццу.
– Да, Витюша, уже выхожу… Юра, я очень тебя прошу, успокойся, я приеду к тебе завтра, после эфира. Я должна сама посмотреть кассету.
В ответ она услышала частые гудки.
В августе 1917 года никаких полицейских урядников в России уже не было. Существовала какая-то народная милиция, но где искать, к кому там обращаться, никто не знал.
– Это же надо, чтобы от варенья такое несчастье. Кто их разберет, кавказцев, – бормотал Тихон Тихонович, – я говорил, опасно покупать на их грязных базарах. Мало ли, может, хранили они это проклятое варенье в погребе, где крысы. Травили крыс, вот и попал мышьяк в банку.
– Да, – хриплым эхом отозвалась из темноты Ирина, – – там много крыс. Я знаю. Я видела.
– Вот я и говорю, – кивнул купец, – случайно могло попасть в банку что угодно. Всякое бывает. Между прочим, я ведь тоже ел варенье, и вы, Константин Васильевич, и Софья Константиновна. Все ели.
– Перестаньте, – махнул рукой доктор, – кого вы хотите обмануть? Одну банку госпожа Порье открыла сама, из нее выложила варенье для Михаила Ивановича и для Сони. Именно туда и был добавлен яд. Когда мы садились за стол, она пододвинула им двоим уже наполненные вазочки. А остальные, то есть мы с вами, накладывали себе из большой вазы. Все просто, Тихон Тихонович, и все заранее продумано.
– Что продумано? Кем? – не унимался купец. – Как вы можете такое говорить? Как вам не совестно? Что же, моя Ирина враг самой себе? Зачем же оставаться вдовой в такое смутное, опасное время? Слушайте, господин доктор, а может, его сиятельство, того, сам решил таким оригинальным способом… ну, вы понимаете, о чем я? Он ведь тонкая художественная натура, а, как известно, такие как раз весьма склонны, – купец сдержано кашлянул, – я давно замечал за ним странности, эта его страсть к одиночеству, к рисованию картинок… А вам, господин доктор, за хлопоты я заплачу. Много заплачу, не обижу. Сейчас деньги ничего не стоят, но вы не волнуйтесь, у меня есть старые надежные золотые червонцы…
– Господин Болякин, уйдите, очень вас прошу. Куда-нибудь уйдите и уведите вашу дочь отсюда, иначе я за себя не ручаюсь, – выдавил сквозь зубы Константин Васильевич.
– Куда же это, интересно, нам уходить? – истерически взвизгнула Ирина. – Мы в своем доме, и вы, господин доктор, здесь не распоряжайтесь. Делайте свое дело, лечите больного, а нам указывать не надо! – Крик перешел в бурные рыдания.
– Вот дура баба, – покачал головой купец, – вы уж простите ее, господин доктор. Она, разумеется, не в себе. Пойдем, хватит орать, тебе лечь надо, – он взял дочь под локоть и увел ее в спальню.
Через полчаса вернулась Соня. На возке вместе с фельдшером Семеном она привезла священника. Батюшка был стар и болен, еще не пришел в себя после надругательства на пустыре, однако ехать к умирающему согласился, взял с собой все, что нужно для причастия.
Михаил Иванович умирал долго и мучительно. Доктор Батурин пытался облегчить его страдания, колол морфий. Агония длилась несколько часов. Священник причастил его. Перед рассветом, перед самым концом, умирающий открыл глаза и зашептал что-то. Соня склонилась к его губам.
– Сонюшка… брошь… не отдавай никому, сохрани, это все, что есть у меня…
– Какая брошь, Мишенька? О чем ты?
– Бабушкина брошь с бриллиантом… не отдавай им…
Соня взяла в ладони его лицо, взглянула в глаза, совсем близко, и произнесла еле слышно:
– Мишенька, у меня будет ребенок, Твой ребенок. Я тебя очень люблю.
Доктор ничего этого не слышал, он как раз вышел в сад, покурить. А когда вернулся, граф уже не дышал.
Через два дня после похорон в Батурине явился Тихон Тихонович в дорогом, с иголочки, английском костюме, таком белом, что резало глаза, с тростью черного дерева в руке, в блестящих белых штиблетах. Он выглядел довольно странно на фоне запущенного батуринского сада. За спиной у него маячила огромная фигура его постоянного безмолвного спутника шофера Андрюхи. В руках он держал огромный букет крупных, как кошачьи головы, багровых роз.
– Чем обязан? – мрачно поинтересовался Константин Васильевич.
– Вот, явился выразить вам благодарность за труды, – кашлянув, сообщил купец и извлек из кармана красный бархатный футляр овальной формы, с золотым причудливым вензелем на крышке, – поскольку деньги сейчас дешевы и ненадежны, решил сделать вам от нашего осиротевшего семейства небольшой презент на память. Изволите взглянуть?
– Благодарю вас, господин Болякин, но презента я от вас не приму, – покачал головой доктор.
– Так вы посмотрите хотя бы. Вещь хорошая, стоит дорого. – Он раскрыл футляр. Там лежали мужские часы-луковица, золотые, с толстенной золотой цепью.
– Оставьте себе. Мне такие роскошества не к лицу.
– Значит, брезгуете моей благодарностью? – прищурился купец. – Ну, тогда примите хотя бы цветы. Это для Софьи Константиновны. В наше трудное время тоже дорого стоят. Специально Андрюху в Москву за ними посылал. Ровно двадцать пять штук, особый сорт. Есть ваза у вас? Эй, горничная, как тебя?
– У нас нет горничной, – сказала Соня, – у нас только кухарка, но она в деревню ушла. А цветы я возьму. Спасибо. Но в вазу их ставить не надо. Я их все равно на могилу отнесу Михаилу Ивановичу.
– А, ну ладно. – Купец еще немного потоптался, несколько раз откашлялся в л кулак и обратился к доктору:
– Я прошу прощения, мне необходимо переговорить с Софьей Константиновной наедине.
– Извольте, – кивнул доктор, – вы можете пройти в дом. Сонюшка, я буду здесь, рядом.
– У вас осталась вещь, принадлежащая нашей семье, – сказал купец, когда они вошли в гостиную, – вещь очень дорогая. Брошь в форме цветка орхидеи с большим бриллиантом в центре.
– Я не знаю, о чем вы, – тихо ответила Соня.
– Ну не надо, не надо, барышня, – хитро прищурился купец, – я ведь не бесплатно. Я вам денег дам. Много денег, золотых червонцев. Золото всегда в цене. Вы уж, будьте любезны, верните брошечку-то. Она не ваша.
– Тихон Тихонович, – покачала головой Соня, – что-то вы путаете. Я не ношу ювелирных украшений, и никакой броши у меня нет.
– Значит, не отдадите? – вздохнул купец. – Напрасно. Так у вас хотя бы деньги были бы, вам они очень пригодятся, когда придется все бросать и уезжать из России. А придется очень скоро, поверьте мне. Если вы надеетесь, что сумеете такую дорогую вещь продать, то ошибаетесь. Вас обманут, вы с вашим батюшкой-доктором люди не коммерческие.
В гостиную вошел Константин Васильевич.
– Вот, господин доктор, – обратился к нему купец, – пытаюсь уговорить вашу дочь вернуть по-хорошему то, что ей не принадлежит. Михаил Иванович, Царствие ему Небесное, поступил необдуманно, отдал Софье Константиновне нашу вещь. А она возвращать не желает. Нехорошо. Стыдно. Вы бы поговорили с ней по-отцовски.
– Соня, в чем дело? – удивился Константин Васильевич. – Объясни, что происходит?
– Я не знаю, папа. Господин купец требует у меня какое-то ювелирное украшение, какую-то брошь. Пусть он сам объяснит, что происходит.
– Моя дочь никогда к дорогим побрякушкам пристрастия не имела, – быстро проговорил доктор.
– Так то не побрякушка. Вещь весьма ценная. В последний раз говорю, отдайте по-хорошему. Я знаю, она у вас. Больше ей негде быть. Ведь это грех – брать чужое. Вам должно быть совестно.
– Ладно, хватит, – поморщился доктор, – о грехе и совести я с вами рассуждать не намерен . дать не намерен. Вы лучше об этом побеседуйте со своей дочерью.