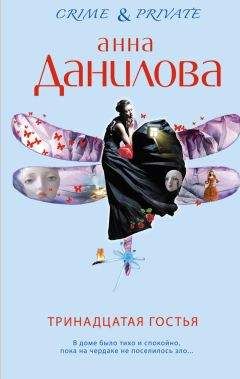Ознакомительная версия.
Глава 7
Варна, 2005 г
…Когда я уже поняла, что попала в руки преступников и Тони – просто мальчик, которого они использовали для того, чтобы заманить меня в Болгарию и, разрезав на части, продать мои органы, здоровье мое уже было подорвано. Ну и что, что Тони удалось в очередной раз выкрасть у своих родителей мой паспорт – мне тогда казалось, что я умираю. И даже любовь к Тони меня не спасала – глядя на него, склонившегося над моей постелью, я беззвучно плакала, понимая, что мы с ним оба оказались жертвами обстоятельств. Хотя он же мог предупредить меня о том, что нам нельзя встречаться в доме его родителей, что нам надо было снять какое-нибудь жилье подальше от Варны и жить себе спокойно. Но по закону я могла оставаться в Болгарии лишь на три месяца – у меня была виза «D», которую продлить я могла бы при условии, что выйду замуж за Тони. А выйти замуж за Тони я пока что не могла – он был слишком молод.
А потом Тони исчез. Его не было примерно неделю. Меня пичкали какими-то лекарствами, чтобы я пришла в себя, поправилась бы, чтобы у меня, наконец, появился аппетит. Я понимала, что меня хотят откормить, как свинью, а потом уже отправить на органы. И я ждала, что Тони меня спасет. И он вернулся. Ночью. Каким-то непостижимым образом он взломал замок от двери спальни, в которой я жила, сказал, что нашел квартиру в Каварне, мы поедем туда и будем спокойно жить… у него появились деньги.
И он сунул мне под одеяло, прямо мне в руку, рулончик, перетянутый банковской резинкой – деньги. И паспорт – в который раз!
– Canim, я сейчас приду, я за машиной. Все спят. Поднимайся. Все закончилось…
У меня закружилась голова. Тони убежал, а я с трудом поднялась и, держась за стены, принялась переодеваться. Я чувствовала, что со мной происходят какие-то необратимые процессы. Что я почти облысела. Что мое тело покрылось коростой. Что я погибаю!
А Тони не пришел. Его зарезали по дороге, когда он возвращался, чтобы забрать меня и спрятать в машине. Думаю, это сделал кто-то из его братьев. Мне стало известно об этом от его матери, Розы. Она вошла утром в спальню, где я, одетая и собранная, лежала на постели в ожидании Тони, и сказала, кутаясь в черную шаль, что Тони убили.
Я сказала, что она – курва. Я знала, что это самое оскорбительное из всех слов, какие только существуют в стране, куда я приехала. Она подошла поближе, хотела было меня ударить, но потом махнула на меня рукой. Сказала – она не знала, что я такая слабая и больная, меня надо было раньше убить. И напрасно она медлила. Я, рыдая, сказала ей, что они ограбили моих родителей, вытащили из них целую кучу денег.
– Тони надо похоронить. Позвони родителям, скажи, что срочно нужны деньги…
– Но это же абсурд. Они больше ничего не пришлют! – Не знаю, откуда у меня были силы возражать этой наглой цыганке, увешанной золотом. У нее даже на больших пальцах рук были перстни.
– Звони. Номер вот этот. Ты просто скажи им, и все. Проси пять тысяч долларов…
Она, эта Роза, черная Роза, была совсем каменной, бесчувственной. И она не любила Тони. Я даже подозреваю, что Тони и вообще не был ее сыном.
Она двинула мне в ухо телефоном, прижав его к моей щеке – звони! Потом, чтобы я поняла, что со мной не шутят, ударила меня по лицу, прошипев мне в ухо ругательство. Я понимала, что надо как-то действовать, она, быть может, и сама того не подозревая, дает мне шанс. Ведь это раньше меня держал рядом с ней, с этой Розой, Тони, теперь же, когда его не было, когда его тело с глубокой ножевой раной покоилось где-то на пустыре (я знала, что его так и не похоронили как положено, а зарыли где-то поблизости от дома), я была чудовищно свободной и агрессивной – я хотела жить!
Поэтому, услышав длинный гудок, я напряглась, собирая всю свою боль, горечь и страх в горсть готовых сорваться с языка слов, и, услышав родное мамино: «Ната, это ты?! Где ты?!» – проговорила быстро, насколько это было вообще возможно:
– Ма, па, приезжайте за мной! Записывайте адрес. – И я быстро продиктовала адрес и фамилию этого гнусного семейства (членом которого я чуть не стала).
– Курва! – теперь уже это грязное слово выплюнула черная цыганка Роза. – Курва! Ты дорого за это заплатишь…
Она ударила меня несколько раз по лицу, но так, чтобы не осталось следов. Потом отобрала мой паспорт и ушла, матерясь по-своему, по-цыгански. Про деньги она ничего не знала, поэтому не стала обыскивать мою одежду…
А на следующий день меня отмыли, приодели и сказали, что приехали мои родители. И я должна буду им сказать, что я счастлива с Тони – у нас была свадьба.
…И все бы закончилось хорошо, если бы не фраза моего отца, брошенная мне в лицо, когда мы вчетвером – я, мой отец, мать и помощник консула – уже садились в машину, чтобы покинуть это страшное место. Он сказал:
– Дома поговорим.
В детстве я очень боялась этой фразы. Она ассоциировалась у меня с очень тяжелыми разговорами с отцом, с выяснением отношений, упреками. С самого раннего возраста отец держал меня на крючке этой убийственной фразой.
Помню один случай. Поехали мы в деревню, к родственникам. Взрослые сидят за столом, я скучаю, слоняюсь по большому дому, заглядываю в шкафы, пробую на вкус все то, что нахожу в кастрюлях и сковородках в кухне, гуляю по двору, пытаюсь познакомиться с собаками и кошками. И вот в сенях я открыла буфет и увидела картонную коробку, полную яиц. Я не знаю, зачем я это сделала, но мне почему-то захотелось разбить их (Цок! Цок! Цок!) – ровно разбить, вдоль домотканой полосатой дорожки, как раз на красной полосе…
Шума было много. Все взрослые в основном смеялись. И только отец, взглянув мне в глаза, сказал:
– Дома поговорим.
Меня никогда не били, не пороли. Но лучше бы уж выпороли.
Или вот такой случай. Снова в гостях. Я – уже подросток. Сижу за одним столом со взрослыми. Половину из того, о чем они говорят, не понимаю. Мне скучно. Начинаются танцы. Меня приглашает друг отца, Борис. Высокий, хорошо одетый мужчина, от которого пахнет коньяком. Я в тоненьком платье, и он обнимает меня так, что у меня начинают пылать уши. И оторваться от него не могу, боюсь, и противно, что лапает меня. Спрашивает: у тебя есть мальчик? Я говорю, что нет. И он со вздохом: они ничего не умеют, эти мальчики. Я тогда не понимала, что именно он имел в виду. И что же такое мальчики должны уметь. После танца я пошла в ванную комнату, привести себя в порядок. У меня было такое чувство, что меня прилюдно раздели. Когда выходила, столкнулась с отцом, который, вероятно, поджидал меня.
– Ты зачем с ним танцевала, а? Он же тебе в отцы годится?!
– Но он сам меня пригласил. Ты же знаешь!
– Ладно. – Я видела, что его всего трясет. – Дома поговорим…
Но дома он со мной не говорил. Они ругались с мамой. Тихо, но все равно – ругались. Я услышала лишь ключевую фразу, которая мне все и объяснила: «Не хочу, чтобы наша дочь выросла шлюхой».
А дочь выросла авантюристкой, прохиндейкой, легкомысленной особой. Что правда – то правда.
И я сбежала. Помощник консула отвез нас в ту квартиру, которую снимали мои родители, разыскивая меня, и мы тепло распрощались. Мама плакала. А я вдруг отчетливо представила себе весь тот ужас, что мне сейчас предстоит – разговор с родителями. Ведь мне придется отвечать за все, что случилось со мной. И за роман с Тони, и за все потерянные нашей семьей деньги, и немалые. А у меня просто не было сил разгребать весь этот кошмар.
Я знала: все то время, что мы еще пробудем в Варне, пока не купим билеты, и даже время в полете, не говоря уже о возвращении в Москву, домой, родители будут пилить меня, безжалостно упрекая за все, что я натворила. Я попросту разорила их, не говоря уже о том, что сама испортила себе жизнь и теперь меня, по всей вероятности, может ждать только тюрьма. И если поначалу они начнут издалека, из детства и школьных лет, с моей средней успеваемости и подростковой неуправляемости («…Все дети, как дети, а ты готова спать, не снимая роликов…» или «…Ты думаешь, мы с папой не понимаем, что твой мотоцикл – это способ убежать от проблем, от одиночества, от самой себя?! Но так нельзя жить, надо смотреть жизни в глаза, надо понимать, что ты родилась женщиной, а не мужчиной, и тебе надо хотя бы изредка надевать платья, красить губы…»), то потом краски будут сгущаться все больше, и отец не поскупится на крепкие выражения. И пока мама будет вспоминать всех тех потенциальных женихов, которых я упустила, отец заклеймит меня позором, непременно обзовет (в который уже раз!) шлюхой и бросит в сердцах, что мне не хватит всей жизни, чтобы расплатиться с ним за свое легкомыслие. Я так хорошо представляла себе наш разговор, что меня заранее тошнило от надвигающихся разборок с самыми моими близкими людьми. А ведь они могли бы повести себя и по-другому. Пожалеть меня, обнять, поцеловать в мою облысевшую голову и сказать, что они готовы забыть все, лишь бы не травмировать меня, не вспоминать весь этот кошмар.
Ознакомительная версия.