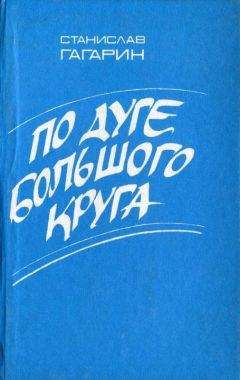И так было после каждого рейса. Нет, невозможно передать это чувство словами. Надо попросту уйти в море и вернуться.
— Хорошая яичница, — произнес я, ковыряя вилкой кусочки ветчины. — Хочу сказать тост: за то, чтоб мы всегда надеялись вернуться.
И вдруг Решевский встал после моих слов, не знаю почему, только он вдруг поднялся из-за стола.
— Извините, я покину вас на минуту, — сказал он.
Мы остались вдвоем, грохотал оркестр, и рядом танцевали, я мог бы пригласить Галку, но этого я не сделал — и было непонятно почему: не мог или не хотел…
Я потянулся своей рюмкой к Галкиной, толкнулся об нее и поставил на стол не притронувшись.
— Забавно, я знаю женщину, которой повезло: у нее два мужа…
— Я тоже знаю эту женщину, — сказала Галка. — Считаешь, ей весело от этого, да?
— Не знаю, — тихо признался я. — Не знаю, Галка. Трудно мне представить себя на ее месте.
Эти ворота я видел только однажды, когда, получив документы и вещи, крепко пожал Загладину руку и медленно пошел прочь, с трудом подавляя желание броситься вперед стремглав.
На углу я обернулся. В дверях стоял майор Загладин. Теперь не гражданин, а товарищ майор… И рядом с ним железные ворота…
Тогда же их просто не увидел, в тот первый день, когда в закрытой машине меня доставили в «зону».
Три дня и две ночи нас везли в арестантском вагоне. Наконец мы вышли на перрон железнодорожной станции и увидели, что вагон прицеплен у самого тепловоза. Конвоиры торопились провести нас служебной калиткой в проулок, где ждала закрытая машина.
Достался мне в автозаке одиночный отсек. Места хватило лишь для того, чтобы сесть. Дверь с зарешеченным окошком упиралась в колени.
Когда нас погрузили в машину, она тронулась по невидимым улицам города. Автозак поворачивал на неизвестных перекрестках, застывал ненадолго, видимо перед красным светом, и мчался дальше, мягко припадая к асфальту. А я, подавленный, отрешенный, сидел на жесткой доске сиденья и видел в окошко по-детски оттопыренное ухо и розовую щеку одного из конвоиров.
Я принялся считать повороты, но подумал, зачем мне это, опустил голову и сжал ее ладонями, поставив локти на колени.
А потом машина въехала в ворота, конвоир сказал: «Выходи», я неуклюже спрыгнул на землю, и мир для меня раскололся на две неравные части. Была «зона», ее я мог покинуть лишь через восемь лет. Здесь ждала меня работа, лишенные свободы люди, среди них волен был выбирать друга или не выбирать вовсе. Здесь начиналась моя новая жизнь. А там, за высокой стеной с вышками для часовых, осталось все то, что знал и любил прежде.
Эти мысли пришли потом, когда немного остыл и стал присматриваться к новому своему бытию. В первый день ни о чем таком и не думал, словно одеревенел. Потом стал наблюдать за собой будто со стороны. А затем сказался режим. Был он продуман толково, если вообще признать толковым делом лишение людей свободы. Впрочем, мир колонии по-своему логичен: и нет нас в обычном мире, и пользу приносим, и время подумать над своим местом в обществе и виной перед ним остается…
И я думал. Думал за работой, за едой и просыпаясь ночью, думал в «шизо»[3], куда угодил за нарушение режима, когда узнал про Решевского и Галку. Думал до одури и, когда становилось невмоготу, принимался читать. Читал я много.
Но чаще всего размышлял о свободе.
И конечно, думал о Галке. Вначале просто любил ее, потом любил и ненавидел одновременно.
Но всегда, за всеми размышлениями стояли те двадцать, что вышли со мной на «Кальмаре» в море… Я видел их вместе и порознь, говорил с ними во сне и наяву, мне хотелось узнать, что думали они обо мне раньше, когда плавали со мною, хотя и понимал, что никогда этого не узнаю. И те, с кем работал давно, и те, кто пошел со мной тогда в рейс впервые, не выходили у меня из головы. Я не мог избавиться от этих наваждений, и легче мне стало лишь много месяцев спустя, когда Юрий Федорович Мирончук написал мне о том, что приговор коллегии по уголовным делам областного суда будет пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, и добавил, что вдова погибшего старпома отдельно, от себя лично, написала ходатайство за меня прокурору.
…Мы стояли рядом, группа заключенных, каждый со своей статьей, со своим сроком и большим миром, оставленным за «зоной», стояли и ждали. Чего мы, собственно, ждали? Нового конвоя, нового начальства, новой команды? Не знаю… Мы попросту ждали. Теперь обычный глагол «ждать» станет для нас смыслом существования в этом, другом измерении. Ждать, ждать и ждать… Сидеть и ждать.
Старший конвоя, прижимая стопку картонных папок — это были наши дела, — вошел в караульное помещение.
Один из осужденных подтолкнул меня локтем.
— Ты чего? — спросил я.
— Глянь, — сказал он.
Я обернулся и увидел, как поодаль, метрах в пятидесяти, собралась и молча смотрела на нас другая группа.
Они были в темных одеждах из хлопчатобумажной ткани, все стриженные наголо, похожие друг на друга. У каждого в глазах застыло неуловимое выражение, отличавшее их от обычных людей, они молча рассматривали нас, одетых в «вольные» костюмы, и мы растерянно переглядывались, стараясь не глазеть на них.
Из дверей караульного помещения, потом узнал, что в колонии его называют «вахтой», вышли начальник конвоя и два офицера.
Начальник свернул бумажку, ее он держал в руках, когда выходил из двери, сунул в карман мундира и скомандовал нам: «Кругом!»
Мы пошли к невысокому домику, стоявшему рядом с «вахтой», там нас оставили и заперли дверь, заворчала машина и выехала из «зоны», а мы остались.
Вызвали меня последним. Приходил сержант-сверхсрочник, называл фамилию и уводил по одному.
Перед порогом кабинета я замешкался, и сержант подтолкнул меня в спину.
— Здравствуйте, — сказал я.
Мне не ответили. За письменным столом сидел бледный, худой старший лейтенант, а сбоку примостился у стола краснолицый усатый крепыш с капитанскими погонами на плечах.
— Докладывать надо, — сказал капитан. — Заключенный такой-то прибыл…
— Он ведь новенький, — примиряюще сказал старший лейтенант, — привыкнет…
— Садитесь. Рассказывайте о себе поподробнее, — сказал старший лейтенант.
— Что делать умеешь? — спросил усач.
— Ловить в океане рыбу, — ответил я.
— Ну, тут у нас не океан, а исправительно-трудовая колония, и ты заключенный в ней. Кем был на воле?
— Капитаном траулера.
— Гм… И чего это тебя в наш сухопутный город? Сидел бы у себя в городе.
— Сам напросился подальше от моря.
— Что, море-то поперек горла встало? — смягчившимся голосом сказал капитан. — Восемьдесят пятая?
— Да.
Наступила тишина. Вопросов больше не задавали. Капитан читал мое дело, а коллега его на бумажном листе выводил карандашом узоры.
— Вот что, — сказал наконец капитан, — ты, Чесноков, побеседуй еще с гражданином, а я пойду. Надо бы его, наверное, к Загладину направить, этот не будет дурака валять. Ведь верно? — спросил он меня.
Я пожал плечами.
— Ну и хорошо.
Он поднялся, сунул старшему лейтенанту папку и вышел.
— Капитан Бугров, — сказал старший лейтенант. — А моя фамилия Чесноков. Олег Николаевич, если по имени-отчеству. Да… Значит, после беседы вы отправитесь в карантин, а затем в свой отряд. Вас мы зачислим в пятый, там начальником майор Загладин. Итак, Волков Игорь Васильевич, тридцать пятого года рождения, уроженец Московской области…
В карантине нас всех остригли, потом предложили вымыться, а перед этим отобрали одежду и выдали черную робу «хэбэ», рабочие ботинки, нижнее белье и особого покроя головной убор. Мы переоделись, и в глазах у всех и у меня, верно, тоже появилось то самое выражение, что заметил тогда у ребят, встреченных нами у входа в «зону».
Больных в нашей партии не оказалось. После медицинского осмотра и карантина пришли надзиратели, чтоб развести нас по отрядам. Моим провожатым оказался низенький старшина неопределенного возраста, в сбитой на затылок фуражке, широченных бриджах синего цвета и сапогах в гармошку.
Он остановился передо мной, оглядел с ног до головы и поправил фуражку.
— Волков, что ли? — спросил старшина.
— Он самый.
— Шмутки свои сдал?
Я понял, что он спрашивает про гражданский костюм.
— Нет еще…
Старшина подошел к лавке, где лежала моя одежда, и пощупал пальцами ткань пиджака.
— Матерьялец, — сказал он. — Импортный клифт небось? Толкнуть его не желаешь?
Я только пожал плечами.
— Ладно, собирай все, сдашь в отряде в каптерку.
Колония располагалась на окраине большого областного центра на Урале. Но города так и не увидел. Когда через два года за мной закрылась дверь проходной, первым и единственным моим желанием было поскорее добраться до вокзала.