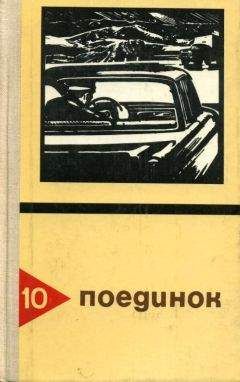— Вздор… товарищ милый, чепуха, дикость… И кто только у вас политрук?
Андрей хватает его сзади за шею, опрокидывает на повозке и заносит над ним тесак. Оглоблин неподвижен. Его парализовало неожиданностью.
— Андрей! — кричу я.
Андрей Фиалка прячет нож и гудит:
— Дура–мама, вишневые сады — чепуха?
Оглоблин опомнился и вскрикивает:
— Товарищ Багровский, что за шутки, в чем дело?
Я говорю спокойно:
— Дело в том, что мы вовсе не красноармейцы.
— Товарищ Багровский, я спрашиваю, что за шутки?
Я смеюсь и объясняю:
— Товарищ Андрей был контужен в бою с белыми. Контузило его как раз в то время, когда их цепь вбежала в цветущий вишневый сад. Это было на Украине, весной. С этого времени у него постоянные припадки, когда кто–нибудь не соглашается с ним насчет вишневых садов.
Оглоблин успокаивается.
— Товарищ Андрей, — ласково говорит он, — ты меня уж прости. Простишь?.. Идет?.. Ну давай лапу. Шлепай крепче… Идет?.. Э… ведь я не знал, брат…
Я оставляю их.
Впереди Волжин объясняет громко:
— Наиближайший тут до Коляша путь пролегает. Мы едем через какую–то мочажину. Впереди и справа
и слева блестят небольшие заводи, обросшие кугой. При нашем приближении из заводей с громким шумом срываются утки. Их черные силуэты мелькают и исчезают в небе. Некоторые из них долго и с тревожным криком уносятся вдаль. Невольно вздрагиваешь, когда они взлетают из камышей. Кажется, что это не утка, а кто–то огромный и черный.
Мы у полотна железной дороги. Ждать нам еще около двух часов. Мы расположились в разрушенной и покинутой экономии с большим парком, наполовину вырубленным. Парк прилегает к высокой железнодорожной насыпи.
Поток, через который перекинут бетонный мост, вытекает из большого пруда в парке.
Огромные дуплистые деревья окружают пруд сплошной стеной. Некоторые из них подгнили и рухнули прямо в воду.
От этого пруд кажется еще более мрачным и бездонным. Издали слышится запах гнилой воды. Листья свернулись от холода, упали и чуть слышно шипят на аллеях.
Кажется, что деревья парка обняли друг друга черными лицами и ждут последней стужи.
Мне чудится, что по ночам в парке по заросшим крапивой дорожкам бродит кто–то бледный в белом.
Все это — мистика, чушь, но мне так кажется. В этом самообмане я нахожу великий и тайный смысл.
Жизнь, как голая женщина, — ее всегда надо закрывать дымкой.
Мне вспоминается мой родной парк, в Васильковском. И там бродит ночью бледная тень моей тоски. Тоски потому, что рабов своих я наказывал не скорпионами, а жалкой плетью. Тоски потому, что:
Все растоптано, продано, предано…
Черной смерти витает крыло…
Ненависть душит меня. Дыхание делается сиплым. Я быстро возвращаюсь к людям.
Сейчас коммунист Оглоблин поверит мне.
Оглоблин сидит на повозке. Он держит большой рыжий кленовый лист и что–то тихо рассказывает моим людям. Я вслушиваюсь. Он объясняет им, как дерево дышит и почему верхняя сторона у листьев глянцевая, а нижняя — матовая.
Увидев меня, он умолкает, смотрит мне в глаза и внезапно настораживается.
Я подхожу вплотную. Он опускает голову и зажимает лист между ладонями, как делают свистульку.
Я спрашиваю:
— Оглоблин, верите?
Он поднимает голову, снова смотрит мне в глаза, потом отворачивается и, поднеся большие плотные пальцы сложенных вместе ладоней, сильно дует в них.
Кленовый листок тонко и отвратительно пищит. Оглоблин поверил, но не хочет отвечать мне.
Меня взбесило, что он отказался отвечать мне не как–нибудь иначе, а вот именно так. Просто. Он даже ничем не показал мне, что не хочет отвечать.
Он и в пищик засвистел не потому, что вот, дескать, ты меня спрашиваешь, а я насвистываю, а потому, что раз уж зажал листок между ладонями, то надо и свистнуть от «нечего делать». Точно бы меня уж для него не существует.
Я спрашиваю вновь:
— Верите?
Он опустил голову и, вглядываясь в ступицу тележки, растирает в ладонях лист. Руки дрожат. Меня еще больше злит и то, что он вовсе не пытается скрыть того, что ему страшно и что руки у него дрожат.
Наотмашь я ударяю его бамбуком.
Оглоблин вскидывается, секунду смотрит на меня. Я не понял его намерения. Мгновение — и он прямо с ходка прыгает на меня, сваливает и, схватив за волосы, запрокидывает мне голову назад, затылком к самой спине.
Мои люди нагло смеются.
Еще секунда — и у меня лопнет горло. Но я уже свободен. На Оглоблине сидит Волжин. Он схватил его тоже за волосы и так же запрокинул его голову к лопаткам.
Волжин исступленно верещит, и бороденка его трясется. Верещание его переходит в слова.
— Ваше благородие… Ваше благородие, — остервенело хрипит он, тиская Оглоблина… — Ва–ше была–аггг…
Я вскакиваю и кричу:
— Разнять!
Волжина отрывают. Но он судорожно вцепился Оглоблину в ворот одежды. Ветхая одежда треснула. Волжина поднимают на воздух и отрывают.
Он трясется от бешенства и хрипло бормочет:
— Ва–ше благородь, что ж вы мне не объяснили… Я ведь думал, вы меня на удочку ловите. Ва–аше благородье…
Он взвизгивает, снова бросается на Оглоблина и впивается в горло. Его вновь оттаскивают. Нижняя рубаха на Оглоблине летит в клочья. На груди кровавые следы когтей.
Подходит Ананий Адская Машина и цыган. Ананий докладывает:
— В самом стыке уложили. Плиту выщербили… Проводок протянули к э–э–вон тому ясеню. На полянке. Отсюда видней приближенье.
Я смотрю на часы. Скоро.
Цыгану я приказываю увести людей и рассыпать вдоль линии цепью с обеих сторон.
Андрей Фиалка и Ананий уводят Оглоблина к ясеню, где электробатарея и телефонный аппарат.
Волжин прыгает под ногами моей лошади. Он немного успокоился и беспрестанно твердит:
— Ужель вы его отпустите? Ваше благородие, наиглупейше будет отпускать.
Половина одиннадцатого. Спустя семь минут через мост пройдет поезд. Мне кажется, я уж слышу далекий тяжелый шелест.
Мне становится страшно оттого, что поезда у большевиков движутся с дьявольской точностью.
В России этого никогда не было, потому что к поезду относились, как к почтовой тройке.
Я трогаю рысью к Ананию и к Андрею Фиалке. За мной пешком бежит во всю мочь Волжин. Он умоляет меня допустить его к Оглоблину.
Я допущу его. Мне хочется изведать злобу его до дна.
Когда я подъехал и спешился, Оглоблин посмотрел–таки на меня.
Потом отвернулся к Андрею Фиалке, уж «деланно», показно выражая свое презрение.
— Товарищ Андрей, — сказал он. — Давай, милейший, закурим… Нам, брат, с тобой только и осталось, что закуривать.
Я вспомнил: когда я сидел у Оглоблина, на квартире, он отказался курить и заявил, что не курит вовсе.
Андрей Фиалка прячет от него глаза, но закурить подает.
— Эх и спутали у тебя мозги, парень, эх и спутали, — певуче тянет Оглоблин.
Вдали ритмично стучит поезд. От его шума как будто чем–то наполняется пустынная даль и оживает.
Я сажусь у батареи. Ананий — у телефонного аппарата.
То, что случилось, можно назвать… Нет, никак нельзя назвать. Нет, этого не могло быть. Этого не было. Произошло все так, как я хотел.
Не было так, как было.
Я стал жертвой своей глупости, а главное, жертвой своей склонности к утонченному наслаждению.
Из–за этой склонности я взял с собой китайца, мечтающего о большевиках, и повел его на «его идеал».
Эта же склонность побудила меня тащить с собой Оглоблина, вместо того чтоб покончить с ним вчера же, на болоте.
Но с чем сравнить наслаждение, которое я испытывал, когда со смехом принимался доказывать Оглоблину, что мы не красноармейцы?
С чем сравнить ту неизъяснимую радость, когда вдруг, под моим упорным взглядом, стыла в его жилах кровь?..
Или, быть может, все это мне показалось?
Нет, все произошло так, как я хотел.
Не было так, как было.
Нет. Нет. Нет…
Не было так, как было.
Наглый факт смеется мне в глаза окровавленным ртом Оглоблина.
Наглый факт упрямо смотрит на меня мертвыми и синими глазами Оглоблина.
Наглый факт тянет к моим ногам окровавленную полу белой рубахи, зажатую в холодном уже кулаке Оглоблина.
Нет.
Я не хочу.
Не было так, как было.
Но всему, что было до этого, я не хочу верить. Иначе что–то лопнет у меня в мозгу и я сойду с ума.
Больше ничего не было. Я ничего не хочу помнить и знать.
Все было так, как мы приготовили. Как я задумал.
И наперед все будет удачно и спокойно.
Главное — все будет так же спокойно… спокойно… сто… тысячу… миллион раз спокойно…
И еще миллион миллионов раз спокойно…
Я спокоен… Все спокойно и гладко по–прежнему.