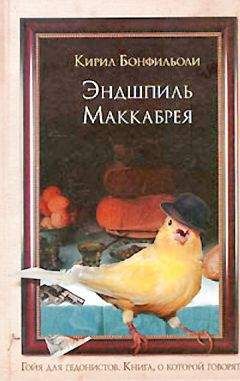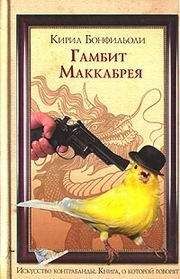— Господи благослови мою душу. Я перестал покупать много лет назад, когда закрылась старая добрая «Галерея Уокера». [88] Я знал, что цены выросли, но...
— Цены вот на эти упадут, если вы не уберете их из солнечной комнаты. Им уже хватит выгорать, больше они не вынесут.
Через десять минут он дрожащими пальцами принял от меня чек. Я оставил ему Николсона в обмен на Алберта Гудвина, [89] который висел у него в гардеробной. Наружная дверь его кабинета приоткрылась на щелочку и вновь закрылась с почтительным щелчком. Присяд виновато вздрогнул и посмотрел на часы. Половина пятого — он опоздает на поезд. Как и его прекрасные юноши, если он себя не пришпорит.
— Повторяйте за мной, — деловито сказал он. — Я, Чарли Страффорд Ван Клееф Маккабрей, истинный и верный слуга Ее Британского Величества, торжественно клянусь...
Я воззрился на парнягу: он что — сомневается в моей чековой книжке?
— Ну же, — сказал он. — Излагайте, старина.
Я изложил — строку за строкой: поклялся служить преданным посланником Ее Величества как в ее владениях, так и за их пределами, невзирая на, до сего времени и впредь, что бы там ни было и помоги мне господь. После чего Присяд вручил мне ювелирную шкатулочку с серебряным песиком алкоголичной наружности, документ, начинавшийся фразой «Мы, Барбара Касл, [90] настоящим запрашиваем и требуем», и красную кожаную папку с золотым тиснением «Сент-Джеймсский Двор». Я подписывался, пока у меня не заболела рука.
— Не знаю, в чем тут дело, и знать не желаю, — повторял Присяд, пока я расписывался. Я уважил его пожелания.
Юноши переместили наружу мою персону, злобно взирая на меня за то, что пришлось опаздывать на поезда. Существа с устоявшимися привычками, в чем их винить. Сам бы я такой жизни не выдержал.
Мартленд запарковался на двойной желтой линии снаружи — он потрясал регалиями своего чина перед сворой инспекторов дорожного движения; еще миг — и он велит им пойти постричься. Сердито махнув мне, чтобы я садился в его кошмарный плетеный «мини», он отвез меня в американское посольство, где какой-то скучающий рохля заляпал мои новые бумаги печатями Государственного департамента и пожелал «оччень, оч-чень удаччного виззита в СШ нашей А». Затем — назад, в квартиру, где я дал Мартленду выпить, а он в обмен вручил мне бумажник, набитый авиабилетами, грузовыми ваучерами и тому подобным, а кроме того — отпечатанный листок с расписаниями, фамилиями и процедурами. (Чудовищная ахинея, эта последняя часть.) Мартленд отмалчивался, дулся — что-то его тяготило. Сказал, что прошлой ночью меня поставил на уши не он и ему глубоко плевать, кто это сделал. С другой стороны, его это не особенно удивило — скорее он досадовал. Я подозревал, что он и сам начинает подозревать: та запутанная сеть, что мы плетем, запутала и наши кальсоны. Как и я, он уже толком не понимал, кто тут кем манипулирует.
— Чарли, — веско вымолвил он, возложив ладонь на дверную ручку, — если вы случайно водите меня за нос с этой картиной Гойи или столь же случайно подведете меня с этим делом Крампфа, мне придется вас прикончить — вы это понимаете, я надеюсь? Вообще-то мне, возможно, и так придется это сделать.
Я пригласил его ощупать мой затылок, который напоминал сбившийся с пути истинного зоб, но он в оскорбительной манере отказался. Выходя, захлопнул дверь, и отметина свинцовой дубинки отдалась во мне сотрясением.
...Влача по воздусям иного Ганимеда
На крыльях прореженных, но могутных —
Такие птицелов уж не пропустит,
Короче: оперен, как царь эфира,
Не куропатка. Если ж Парацельс
Такую йоту весит, то твои атомы
Подавно безвоздушны от любви...
...ну, словом — нет, куда там,
И буквы хватит, стоит тебе вздрогнуть,
А Парацельсу мысль о том сплести, —
И легче вздоха, и нежнее смерти
Туда тебя перенесу...
«Парацельс»
Я отбывал в Америки — настал первый день каникул. Я спрыгнул с кровати, требуя ведерко и совок, сандалики и панамку. Затем без помощи каких бы то ни было стимулянтов спорхнул вниз, распевая:
А завтра буду я далече,
И больше педелей не встречу, —
чем немало обеспокоил Джока, который хмуро собирал мои пожитки к американским приключениям.
— С вами все в порядке, мистер Чарли? — гадко осведомился он.
— Джок, я даже не могу тебе сказать, в каком порядке со мной всё...
Долой латынь, к чертям французский,
Нам не сидеть на лавке узкой, [91] —
продолжал себе я.
Стояло прекрасное утро — оно заслужило бы «проксиме акцессит» [92] от самой Пиппы. Солнце сияло, канарейка просто ревела от радости. Завтрак состоял из холодного «кеджери», которым я положительно набил утробу — нет ничего приятнее, — и залил бутылочным пивом. Джок несколько дулся оттого, что его не берут с собой, хотя на самом деле ему не терпелось остаться в квартире хозяином; полагаю, в мое отсутствие он будет созывать друзей на партии в домино.
Затем я просмотрел скопившуюся примерно за неделю почту, заполнил бланк взноса на текущий счет, выписал несколько чеков на особо докучливых кредиторов, протелефонировал «Фифе-по-вызову» и продиктовал дюжину писем, после чего приступил к ланчу.
Перед всякой длительной экспедицией я обычно принимаю внутрь такой же ланч, как тот, что Крыс приготовил для Морского Крыса, и они съели его, сидя на травке дорожной обочины. Крыс, как помните вы, мой образованный читатель, «...сложил непритязательный провиант, куда... с тщанием включил ярд длинной французской булки, колбасу, в которой пел чеснок, немного сыра — тот лежал и плакал, а также длинношеюю флягу, оплетенную соломой и содержавшую в себе жидкое солнышко, собранное и засыпанное в закрома на дальних южных склонах». [93]
Мне жаль тех, чья слюна не истекает от сочувствия к сим восхитительным строкам. У скольких мужчин моего возраста вкусы и аппетиты отдаленно диктуются этими — более чем полузабытыми — словами?
Джок отвез меня на двор мистера Спинозы, где мы загрузили «Серебряного Призрака» моими чемоданами (один — свиной кожи, другой — парусиновый) и сумкой с книгами. Десятник Спинозы с едва ли не японским вкусом не стал выправлять кувалдой вмятинку от пули в дверце, но рассверлил ее и инкрустировал диском из полированной латуни с аккуратно выгравированными инициалами Спинозы и датой, когда тот отправился на встречу со своим ревнивым богом — «Творцом творцов всех сотворенных марок», как умело ввернул Киплинг. [94]
С великим трудом нам со Спинозой удалось отговорить Крампфа ставить на «Призрака» коробку скоростей с синхронизацией: теперь каждая звездочка и шпиндель в ней были идеально точной копией оригинального содержимого, а тридцать тысяч миль симулированного пробега с большой любовью были втерты в них шкодливым подмастерьем. Шестерни сцеплялись так, что мне приходила на ум теплая ложка, погружающаяся в крупную порцию икры. Десятник же предпочитал метафору более общего свойства, нежели икра: он уподобил коробку передач торопливому соитию с дамой доступных достоинств, коей он имел обыкновение покровительствовать. Я уставился на него — парняга был почти вдвое старше меня.
— Я восторгаюсь вами! — вскричал я, восторгнувшись. — Как же удается вам сохранять подобную вирильность на закате дней ваших?
— Что тут скажыш, сэр, — скромно отвечал он. — Вся вырыльность — с рождения да от воспытания. Папаша мой куда как жуткий был челывек, и то волысня по всей спыне до самый смерти была, что твоя метла дворницкыя. — Он смахнул прочь скупую мужскую слезу. — Не то чтобы мне когда-ныбудь не хотелось исполнить дамскый капрыз. Но иныгда, сэр, это как мырмыладину в копылку пыхать.
— Я вас понимаю, — сказал я.
Мы с чувством пожали друг другу руки, он с достоинством принял вороватую десятку, мы с Джоком уехали. Все в мастерской махали нам вслед — кроме шкодливого подмастерья, который писался от затаенного хохота. Мне кажется, он полагал, будто я положил на него глаз, будьте любезны.
Наше следование в Лондонский аэропорт было едва ли не королевским; я поймал себя на том, что воспроизвожу в точности то восхитительное эллиптичное, вполне неподражаемое мановение с закруткой вниз, коим столь отличается Ее Величество Елизавета, Королева-Мать. [95] Естественно, ожидаешь некоего «ампрасмана» [96] зрителей, коли бесшумно поспешаешь сквозь Лондон и его предместья в антикварном «роллс-ройсе» чистейшей белизны и стоимостью в 25 000 фунтов стерлингов, однако признаюсь: веселый смех, вызванный нашим проездом, — праздничный настрой толп — меня озадачил. Только прибыв в Аэропорт, я обнаружил три надутых «французских письма», огромных, как воздушные шарики, которые шкодливый подмастерье привязал к укосинам нашего верха.