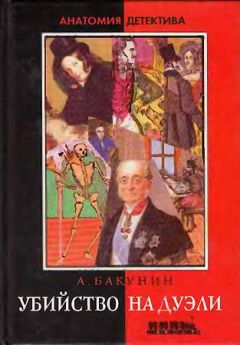Потом передо мной проплыли лица всех новых людей, увиденных мною за этот день. Они быстро растворились в темноте, потом появилось лицо Милева с глазами убийцы, оно тоже куда-то исчезло, и, наконец, я увидел сияющие глаза княжны Голицыной. «И будете сожалеть, что не увезли меня отсюда на извозчике неизвестно куда», — прозвучали в моем мозгу ее слова, и я погрузился в сон.
На следующий день я, как ни странно, проснулся ровно в шесть часов. Каждое утро в доме Бакунина было для меня истинным наслаждением. Теплая ванна, душ, бритье английскими лезвиями перед большим зеркалом — я посвящал всему этому не меньше часа. На одно разглядывание своего лица в зеркале у меня уходило минут пятнадцать, а иногда и все двадцать. Видя в зеркале свои собственные внимательные глаза, мне почему-то виделись окрестности Захаровки, имения князя Захарова, моего отчима-отца. Луг, овраги, спускавшиеся к речушке, опушка леса, поле за селом, холмы, покрытые лесом, — все это словно было запрятано в глазах моего отражения.
Выйдя из ванной комнаты, я обнаружил у себя Бакунина. Он разложил на столе мои записки и бегло просматривал их.
— Доброе утро, Антон Игнатьевич, — поздоровался я, — вы что же, не ложились этой ночью?
— Почему же, вздремнул у себя в кресле, — ответил Бакунин.
Я уже знал о его привычке во время ночной работы засыпать в кресле-диване на четверть часа, самое большее на полчаса. Это восстанавливало его силы, и он мог работать сушами.
— Что скажете о моих записях?
— Хорошо, князь, хорошо. Только надобно побольше протокола. Наполеон, кажется, говорил, что читает отчет о сражении с таким же увлечением, как девица роман. А у нас, брат, — протокол. Ты пишешь, как будто сочиняешь повесть. А нужно протоколировать. Все помечай, все пригодится. Время отмечаешь — это хорошо, это важно. А погоду везде пропускаешь. Пиши. Дождь, ветер, сыро, солнце сияет. Важно. Помнишь доктора? Ветер, говорит, был, ветер запомнил. Дался ему этот ветер. Я третий день голову ломаю — почему ему ветер запомнился? Старайся ничего не пропустить. Видишь — трещинка на стене — трещинку впиши. Муха летит — и муху сюда же. И старайся все по одному плану — так надежнее. Литературности мы с тобой потом добавим, причешем, пригладим. Главное, ничего не пропустить: что происходит, где, что вокруг, какое впечатление от всего окружающего, четко — когда началось, когда закончилось, выводы. И особенно подробно людей. Тут уж не жалей бумаги. Каков собой: фигура, рост. Какая голова — круглая, сплюснутая. Каков: строен, неуклюж. И лицо. Лицо самым подробнейшим образом. Глаза — цвет, большие, узкие, брови, ресницы, как смотрит. Опять же нос. Гоголь вон целую повесть написал. Прямой, тонкий, с горбинкой, мясистый, курносый или того лучше — кривой. Рот, губы, зубы, как улыбается. Опять же, подбородок, усы, бакенбарды, уши. Шея тоже. И не скупись на детали, например: красная, толстая, жилистая шея. Помнишь у доктора? Именно красная, жилистая. Тебе ничего не стоит, а читателю интересно: вот, мол, он, доктор с красной жилистой шеей.
Бакунин откинулся на спинку стула, словно устал от своего монолога.
— Был такой француз по фамилии Бертильон. Он первым начал измерять все параметры заключенных. Рост, окружность головы, длину рук, ног, пальцев, ступней. Это потом назвали бертильонажем. В романе мы должны дать такой бертильонаж каждого персонажа. Тургеневу достаточно написать, что она была прелестна. И все. А нам — в размерах, все подробности. Это у нас и будет, душа моя, — анатомия детектива.
Бакунин опять передохнул.
— Ну и философии подпустим: вот, мол, был человек — и нет его… Но главное — деталей побольше, — Бакунин поднялся со стула и направился к двери. — За завтраком обсудим все, что есть на сегодняшний день.
Бакунин вышел из комнаты. Я не успел сказать ни слова. Одевшись так, что можно было сразу идти к завтраку, я сел за стол и начал рассматривать свои записи, испещренные пометками Бакунина. Позже я их переписал начисто. Сознаюсь, не всегда следуя пометкам Бакунина. И сожалею, что не сохранил этого экземпляра с пометками.
Против каждого вновь появляющегося персонажа на полях стояло: глаза, нос, уши, шея. При диалогах: мимика, жестикуляция, голос, бас, баритон, тенор, хриплый, надтреснутый. Если человек уходил или входил, то рядом стояло: походка. Кое-где я сразу же стал вписывать требуемые дополнения.
Но по большей части сделать этого я не мог, по той простой причине, что не помнил, какие глаза были у дворника Голицыных Никиты. Не помнил походку сестры князя Голицына. Не помнил, каким голосом — баритоном или фальцетом — кричал на нас Толзеев.
Сначала это расстроило меня. Мне казалось, что я не наблюдателен. Моя первая повесть была для меня очевидным подтверждением этого. Вспоминая ее, я пришел к выводу, что и в ней тоже не хватало всех этих деталей. В ней была какая-то задушевность. Какой-то милый мягкий свет. Лиризм. А в романах в духе Конан Дойла нужно другое. «А лиризма мы потом подпустим», — скажет Бакунин.
Но потом мое расстройство прошло. Я достал ножницы, нарезал из чистых листов бумаги небольших карточек. На каждой карточке в верхнем левом уголке я написал имя будущего персонажа: Толзеев, Кондауров, доктор, сестра князя, Полуяров. А потом под номерами: 1 — глаза, 2 — нос, 3 — усы, 4 — подбородок. Каждый пункт я собирался в дальнейшем заполнить и таким образом подправить свою слабую наблюдательность. Подумав, я приготовил еще несколько десятков карточек: Касьянов луг, особняк князя Голицына, квартира Югорской, кабинет пристава. На них я обозначил пункты: 1 — где находится, 2 — размеры, 3 — что сразу бросается в глаза.
А кроме того на обороте каждой карточки даже начертил кое-какие схемы и планы. «Помечай, все пригодится», — повторял я про себя слова Бакунина. Как потом стало ясно, он был совершенно прав. Для написания романов в духе Конан Дойла такой материал имеет ценность на вес золота. Как, впрочем, и для самого расследования.
Невольно я взял свои записи с пометками Бакунина и начал переписывать их в манере протокола. Перечитав то, что получилось, я остался доволен. Да, такой рассказ не давал возможности задушевно беседовать с читателем. Но нужна ли читателю задушевная беседа? Я начал рассуждать о том, что с детства мне хотелось записывать, как бы протоколировать все, что попадало в круг моей жизни. Я не вел систематического дневника, но всегда записывал все новое, что входило в мою жизнь. Мне представилось, что я протоколировал свою жизнь с детства. Как бы было интересно сейчас прочесть эти протоколы. А если запротоколировать жизнь моего отца, дедушки, отчима, матери, какая бы необычная получилась повесть! Как интересно бы сравнить ее с тем же романом «Дубровский» Пушкина!
Мои размышления прервал легкий стук в дверь. Вошла Настя.
— Завтрак подаем, — сказала она.
Я посмотрел на Настю и обратил внимание, что с ней что-то произошло. Собранная, аккуратная, даже строгая и решительная, она всегда была весела, деятельна, уныние и грусть, казалось, обходили ее стороной. Сейчас же я видел растерянную, сбитую с толку девушку, смущенную, готовую расплакаться или в отчаянии бросить все на свете и уйти куда глаза глядят.
— Что случилось, Настя, — спросил я, — на тебе лица нет. Тебя кто-то обидел?
Задав этот вопрос, я тут же сообразил, что мог бы догадаться и не спрашивая, поскольку кроме Василия обидеть Настю было некому.
— Василий Иванович, — Настя называла Василия по имени и отчеству и только на «вы», — объяснил — через шесть лет они улетят с барином на аэроплане. А меня не возьмут, места в аэроплане не хватит. Все улетят, а горничных оставят.
Я едва сумел сдержать улыбку. Хорош Василий, превративший шесть миллиардов лет, оставшихся до угасания Солнца, в шесть лет! Но тем не менее Настя была не на шутку напугана тем, что останется без места в аэроплане, который унесет жителей Земли от вечного мрака.
— А почему же именно тебе не хватит места? — спросил я.
— А потому что при барине полагается только по одному месту, — горестно сообщила Настя.
— Да, это верно, — серьезно подтвердил я. — Но у нас как раз всем хватит места. Василий полетит при Антоне Игнатьевиче, Никифор при дядюшке, кухарка при Карле Ивановиче, ну а ты при мне.
Настя на мгновение задумалась и, сообразив, что всем хватит места, просияла и выпорхнула из комнаты, но тут же вернулась. Лицо ее снова растерянно вытянулось.
— А Селифан? — спросила она.
— Кучерам отдельные места. По одному кучеру на всех господ. У них свое место, как в коляске, впереди всех.
Последний довод окончательно убедил ее, и она весело побежала на кухню, подавать завтрак. Я посмотрел на часы — было четверть девятого.
Глава тридцать восьмая
ТАИНСТВЕННЫЙ ВЕТЕР
Когда я пришел в столовую, все уже собрались. Карл Иванович, как всегда строго одетый, чопорно восседал за столом. Дядюшка Петр Петрович был в своем неизменном халате. Акакий Акинфович, слегка сутулясь, с видом бедного родственника пристроился рядом с ним. Бакунин сидел на своем обычном месте — во главе стола.