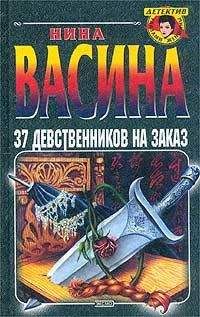На кладбище — ни души. Ни сторожа, ни костюмированной охраны. В легком тумане кресты и памятники будто плыли по молочной реке времени вспять, навязчиво высвечивая на себе даты.
Я завернула блокнот в полиэтиленовый пакет, стала шагах в трех от березы и посмотрела в небо. Потом передумала и опустила глаза в землю. Мне показалось, что славный предок Богдана лучше услышит все снизу.
— Богдан! — произнесла я с чувством и задумалась. Сказать, что выполнила его поручение? Глупо. Если я закапываю блокнот, значит — выполнила… Сказать, что у меня все хорошо?.. Честно говоря, ничего особенно хорошего после его смерти со мной не происходило: всех мужчин я сравнивала с ним, и общение даже с самыми удивительными представителями мужского пола ни разу не доставило мне пронзительного ощущения удивления и восторга, как это происходило от общения с Богданом. Может быть, попросить чего? А чего?.. Он сам научил меня добиваться всего самостоятельно и чтить заповедь каторжанина Солженицына: “Не верь, не бойся, не проси!” И вдруг, стоя по щиколотки в уползающем тумане, я сначала подумала, что хотела бы знать, куда делась голова Богдана, а потом — чем буду копать ямку для блокнота?
Осмотрелась. Прошлась у соседних могил, ничего копательного не обнаружила и, в странном азарте преодоления трудностей любой ценой, подобрала какую-то щепку и стала рыть ею землю, сдерживая подступившие слезы.
Минут через десять моего исступленного ковыряния твердокаменной поверхности земли кладбища в Незамаевском, я услышала позади тактичное тихое покашливание и оглянулась, не вставая с колен.
Метрах в десяти сзади стоял сторож с лопатой и, как я подозреваю, давно и с интересом наблюдал сначала за моими потугами произнести торжественную речь, а потом за моей задницей в джинсах в обтяжку.
— На сколько? — спросил он, когда я показала кончиком туфли место.
— Сантиметров на пятьдесят.
Сторож молча и сосредоточенно принялся за работу, совершенно поразив меня сначала подготовительным этапом, — он обозначил неглубокими полосками приблизительный размер будущей ямки, как это делают, вероятно, для настоящей могилы (что ж, это и будет могила моим тридцати семи любовным приключениям), а потом, когда яма углубилась, вдруг заявил, что он бы закопал поглубже, “а то некоторые звери кровь чуют глубоко”.
От такого заявления я только слегка покачнулась.
— Прикажете поставить отличительный знак? — спросил он, когда земля над блокнотом бьла достаточно хорошо утоптана его сапогами и заботливо отложенный в сторону прямоугольник дерна возвращен на место.
— Я хотела бы положить камень. Небольшой. Светлый.
— Прикажете посадить цветов?
Я молчала и ждала, когда он поднимет голову в ожидании ответа. Наши глаза встретились. Сторож оказался не простым копальщиком могил — он изо всех сил хмурился, но сдержать мерцающую в зрачках насмешку не мог.
— Цветов не надо.
На обратном пути я все время спала.
Анекдот: Сидят два психиатра в креслах напротив друг друга. Лечатся…
В шесть утра я позвонила с вокзала Лумумбе и попросила ее провести со мной сеанс психотерапии.
— С ума сошла?.. — бормотала она спросонья. Я честно ответила, что пока еще не совсем, но, если мне не помочь, могу запросто свихнуться.
— А-а-а ничего, если доктор будет в ночной рубашке?.. — зевала в трубку Лумумба.
— Ничего.
— А-а-а если по квартире будут бегать двое чертенят?
— Ты же почти не пьешь?!
— Зато я нюхаю. Приезжай. Купи молока. Раздевшись в ее квартире, я первым делом ошарашено спросила:
— Что это значит?..
На раскладном диване в гостиной спали два маслянисто-кудрявых негритенка.
— Это значит, что сегодня воскресенье, — объяснила Лумумба. — К одиннадцати — зоопарк, потом аттракционы, потом мороженое с фантой, потом — магазин игрушек.
— Я ничего не понимаю!
— Это не страшно. — Лумумба увлекла меня в кухню, силой усадила за стол, а сама занялась кофемолкой. — Я подозреваю, что ты даже не знаешь, какое сейчас время года.
— Осень. Нет, подожди…
— Вот именно. Подождать, пока ты вспомнишь, давно ли видела настоящую живую землю, давно ли трогала ее руками.
— Вчера трогала; и не просто трогала, а ковырялась палкой, а потом еще сторож кладбища выкопал персонально для меня ямку поглубже, — созналась я. — Сейчас у нас или осень, или весна, но не лето — это точно, потому что даже к югу от Москвы нет зеленой сочной травы и разных там одуванчиков.
— А какая погода была вчера в Москве, ты помнишь? Шел дождь или снег?
— Не знаю, — с чистой душой созналась я.
— Тогда, может быть, ты припомнишь: еще год назад я тебе говорила, что два раза в месяц беру на выходные детишек из детского дома?
— Ну да… — неуверенно кивнула я, вспоминая, — мы еще обсудили с тобой комплекс неимущего…
— Если ты так хорошо все помнишь, почему впадаешь в ступор при виде моих детишек выходного дня? — Лумумба поставила передо мной чашку с кофе и села напротив.
— Наверное, потому что… Где ты взяла сразу двоих негритят?
— Я только что сказала — в детском доме. В городе Зеленограде! Там их только двое, больше нету! А в других детских домах чистокровок вообще нет, только мулаты. Мой комплекс неимущего и заключался как раз в том, что я никогда не смогу иметь детей-чистокровок!
— Лумумба… — Я закрыла глаза и дождалась, пока головокружение установится в плавное маятниковое покачивание. — Если хочешь, я могу провести с тобой сеанс психотерапии. Я правда могу, я в порядке.
— Ты не в порядке — это раз; и мне не нужен сеанс психотерапии — это два! Я как раз для обретения полнейшего душевного спокойствия и провожу с этими очаровательными обезьянками почти все свои выходные! Сейчас ты поймешь, что я абсолютно душевно здорова. Ну вот скажи: могу я, по-твоему, иметь детей — чистокровных негритят?
— Да… То есть я не понимаю, почему бы нет?
— Не могу! Потому что для этого мне пришлось бы выйти замуж за негра, а мне нравятся блондины. Блондины, понимаешь?!
— Не кричи так громко, — скривилась я. — Голова раскалывается.
— И не просто блондины, — не может успокоиться Лумумба, — а желательно еще и огненно-рыжие.
Такая вот, идиотизьма, как говорил стойкий к моим глазам преподаватель философии. Вот я и подумала, кто их еще погулять возьмет, не будучи обвиненным в желании эпатажа коренных москвичей?
— Кого?..
— Этих братишек-негритят, оставленных в московском роддоме мамой — нелегалкой из Конго! Может, тебе правда чего-нибудь выпить? Ты плохо выглядишь, а соображаешь еще хуже.
— Нет, спасибо, это последствия употребления самогонки после рома. Достаточно кофе. Значит, ты берешь этих мальчиков-негритят на выходные, чтобы подавить внутри себя чувство невозможности чистокровного материнства? Постой-ка, помнишь: у нас были лекции об этническом происхождении некоторых психических расстройств?.. Еще преподаватель был адыгеец, помнишь?
— Помню, у меня пока что с памятью все в порядке. Если ты закончила с предварительным анализом моих отклонений, можем перейти к твоим фобиям. Стоит поторопиться — времени осталось мало, мальчики проснутся около девяти, я обещала им грандиозный завтрак.
— Последний вопрос. Как к твоему желанию гулять этих мальчиков по выходным отнеслись в детском доме? Сразу разрешили брать детей?
— Еще бы они не разрешили! Правда, пришлось показать диплом психиатра, чтобы не проходить тестирование у их специалиста. Ладно. Расслабься. Если хочешь, я просто посмотрю минуты три-четыре в твои глаза и скажу, что с тобой происходит.
— Валяй…
Маятник внутри моего черепа отсчитывает секунды — от левого зрачка к правому, от правого — к левому… Глаза Лумумбы смерчем затягивают реальность: еще пять-шесть качков маятника туда-сюда, и мы с нею окажемся в абсолютной пустоте присутствия отсутствия — термин Богдана, — это когда двое целиком поглощаются друг другом, нащупав глазами в глазах других лазейку в вечность.
— Ты грустишь о мужчине, хочешь его вернуть навязанными образами-заменителями, но этого мужчины больше не существует, — приговорила меня Лумумба. — Кого ты пытаешься воскресить воспоминаниями? Своего любимого?
Странно, в этот момент, хоть я и подумала о Богдане, но удивилась ее проницательности именно в отношении Киры.
— Дело в том… Кого считать любимым, — неуверенно произнесла я… И меня понесло. — Из тридцати семи мужчин, с которыми я занималась любовью, любимым можно назвать каждого, потому что я ни разу не делала это без азарта, интереса, похоти и жалости, что в совокупности и определяет для женщины любовь. В некоторых случаях сюда можно добавить еще восхищение, азарт заменить восторгом, похоть — нежным материнским чувством или поклонением, жалость — ненавистью, но, в общем, понятие любви от этого не изменится, разве что приобретет оттенок индивидуальности. Единственный мужчина, спектр чувств к которому невозможно перечислить (но похоть в нем отсутствует, это точно), был Богдан Халей, и меня всегда поражала животная привязанность, которую я испытывала к нему. Представь собаку, которую человек спас от смерти, принес домой и подлечил, она на все готова ради хозяина, а хозяину, уставшему в конце жизни от столь любимого им одиночества, хочется научить собаку говорить и думать на нескольких языках, разбираться в литературе, правильно распознавать хороших и плохих людей, пить водку, слушать музыку…