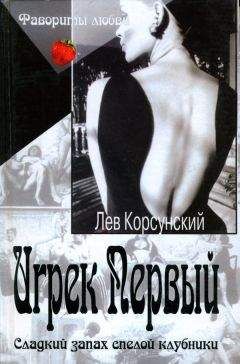Коробочкин достал из кобуры под мышкой пистолет и сунул его за пояс. Чтоб не отличаться от прочих воробьевцев, майор был в застиранном фланелевом халате мышиного цвета и спортивной шапочке. А для красоты он приклеил себе бороду и усы.
* * *
Едва благородный убийца приблизился к убежищу Игрека, как в парке возник пограничник Муха. С очумелым видом безумец принялся истошно вопить:
— Майор Коробочкин! А, майор Коробочкин? Брось оружие, убивец! Руки вверх! Не стрелять! Лечь на землю мордой вниз!
Особого успеха у душевнобольных выступление Мухи не имело. Они привыкли к театрализованным эффектам, но майор Коробочкин, будучи психически здоровым субъектом, занервничал. И вновь не выполнил свою историческую миссию.
Впоследствии Игрек узнал от Мухи, что к нему обратилась перепуганная душа Алевтины со слезной просьбой спасти Игрека от неминуемой гибели.
Еще не ведая о грозившей ему смертельной опасности, после дурацкой выходки безумного Мухи Игрек вновь разнежился вместе с душой Алевтины на солнышке, еще не понимая, отчего ему так хорошо. Потустороннее очарование возлюбленной опьянило Долговязого лучше всякой водки. Бессмысленная, слюнявая улыбочка, возможно, не украшала его детскую физиономию, но несомненно свидетельствовала о неземном блаженстве психа.
Оно длилось недолго.
Гром грянул, когда Игрек узрел Алевтину, сделанную из плоти и крови. Не призрака и не дух Ведьмы. А ее саму — собственной персоной. Ту самую, что он похоронил. Ту, чью душу он ощутил внутри себя ласковым солнечным шаром.
С лучезарной улыбкой Алевтина направлялась к своему возлюбленному.
Не успев испытать никаких чувств, Долговязый впал в прострацию, превратившись в идиота.
«Это галлюцинация!» — додумался Игрек. Вздохнув с облегчением, он расплылся в широкой придурочной улыбке. Кого в психушке напугаешь глюками! Да к тому же такими приятными, как этот! Жаль, если после укола «Галочки» этот глюк испарится!
— Игрек! Ты мне не рад? — приблизившись к Долговязому, Ведьма опечалилась.
Игрек промолчал. Не совсем еще потерял голову, чтобы с глюками лялякать.
Настроение юноши испортилось, как случалось, когда душа Али покидала его. Склонный к самосозерцанию, Игрек из этого наблюдения сделал следующий вывод: незримая и нематериальная душа для него куда важней зримого глюка.
— Ты не хочешь меня знать? — лицо галлюцинации задергалось, приготовившись заплакать.
От неожиданности он испуганно дернулся — не ждал, что прикосновение глюка будет вполне материальным.
Иллюзорная Алевтина снова вцепилась тонкими, сильными пальцами в плечо Игрека — до боли.
— Это мне кажется! — вслух попытался себя убедить Долговязый.
— Игрек! — чуть не плача, прикрикнул на психа глюк. — Ты совсем, что ль, свихнулся!
По представлениям Игрека, галлюцинация должна была бы вести себя иначе. Ублажать психа, который ее создал.
— Ты не веришь, что это я? — допытывалась Ведьма. — Хочешь, я тебе расскажу то, что должны знать только мы с тобой?
С дурацкой улыбкой Долговязый помотал головой.
— Ты знаешь то, что знаю я.
— Почему?
— Потому что ты — это я.
— Я — это я! — обиделась Ведьма.
Игрек с сожалением вздохнул.
— Я тебя похоронил.
— А я ожила и вылезла из могилы.
— Так не бывает! — с грустью сообщил обитатель дурдома, где бывало все, чего никогда не бывает.
— А бывает так, что в твою могилу кого-то еще подселяют?
— Всю дорогу!
— Меня откопали, и я появилась на божий свет.
Игреку очень не хотелось верить в эту ахинею, но он принял услышанное всей душой. На всякий случай задал совершенно бессмысленный контрольный вопрос:
— Кто же ты такая?
И услышал возмущенный ответ:
— Как это кто! Ирина, конечно!
— Алевтина, ты не в себе!
Игрек уставился на удивительное создание во все глаза. Нет, это не глюк. Это безумная реальность.
— Посмотри на себя в зеркало!
Создание немедленно позаимствовало зеркальце у Кукушки.
Та хотела покуковать воскресшей Алевтине, но вместо пророчества у нее получилась только беззвучная икота.
* * *
Смутное, розовое облачко лица, виденное Ириной мимоходом в тусклом больничном зеркале, обрело четкие очертания.
Из дамского зеркальца на Ирину очумело уставилась Алевтина.
— У вас нет другого зеркала?
— Все такие!
Пришла пора балерине задаться сакраментальным вопросом: кто я такая?
Ответа на него кроха не знала.
Впрочем, она и Ириной быть перестала, и крохой…
Руки — ноги тоже были чужими… Мутант какой-то…
Тут же в больничном дворе Ирина попыталась сделать простенькое балетное па. И свалилась на землю.
Конечности стали чужими. Неуклюжими. Длинными. Ирина думала, что отлежала их в гробу — не самое удобное лежбище. Нет, произошла подмена.
Ирина узнала столь любимые ей руки Ведьмы… И ноги…
Наверно, и то, что между ног… И между рук…
Бывшая балерина осторожно ощупала свою грудь.
Всю дорогу до больницы она чувствовала дразнящую внутреннюю щекотку от радостного предчувствия: сиськи в могиле выросли. Ирина боялась даже потрогать свои мальчишеские соски. Приятная тяжесть в груди заставляла ее чувствовать себя женщиной. Для балета, конечно, коровье вымя ни к чему, но до этого Ирине еще далеко…
Так же, как и до балета.
На душевнобольных балетные экзерсисы Алевтины произвели приятное впечатление. Игрека же все, что происходило с его возлюбленной, ужаснуло.
А саму Ирину ошарашило.
* * *
Игрек наблюдал за Алевтиной издалека, понимая, что пребывание в могиле невероятно изменило ее.
Внешне все осталось, ка было, а с головой стало совсем плохо…
Впрочем, и у самого Игрека с головой были свои проблемы.
Больше всего Долговязого удручала не помятая, ка из-под автобуса, наружность его избранницы. И даже не сладковатый трупный запах, исходивший от нее, и не севший, трескучий голос… С этими недостатками Игрек знал, как бороться: закрыть глаза (себе), заткнуть уши (тоже себе) и не дышать.
Но что тогда останется от присутствия любимой — если ее не видеть, не слышать, не обонять?
Она исчезнет.
Почему Игрек блаженствовал, пока не появилась особа, так похожая на Алевтину? Если поверить умалишенному Мухе, к Игреку явилась родная душа. Конечно, Алевтинина.
Невидимка, с которой Игрек был наедине, пока не заявилась эта Алевтина, давала ему блаженство, хотя ту Алевтину он тоже не видел, не слышал и не чуял носом.
Эту Алевтину можно было еще потрогать, для женщины очень ценное качество. Но та, неощутимая руками Ведьма вызывала у дылды куда больше любовного воодушевления, чем это физическое тело.
Именно в таких словах Игрек и подумал о плоти любимого существа: физическое тело — Неужто все эти невидимые глазу метаморфозы произошли с Ведьмой только из‑за пребывания в могиле?
Или на нее подействовала еще и измена Игрека?
Игрек понимал, что сейчас не время оправдываться перед смятенной женщиной в любовных похождениях. Но не удержался от покаяния.
— Я изменил тебе. С Ириной.
Алевтина уловила сказанное самым краешком спутанного сознания.
— Ты меня вспомнил… Я тебе изменила… С Алевтиной…
— Алевтина, я тебе изменил с Ириной.
— Ирина тебе изменила с Алевтиной… Алевтина тебе изменила с Ириной…
Расстройство сознания любимой женщины было налицо, но убивало Игрека отсутствие у нее незримого и неуловимого: ауры — того, что делало его счастливым.
* * *
Душевнобольные с ликованием приветствовали Алевтину. Радость их объяснялась не только любовью к Ведьме, но и к тому приятному обстоятельству, что можно, оказывается, помереть, отмучиться на похоронах, лечь в могилу… И, как ни в чем не бывало, вновь появиться в Воробьевке.
Многие психи не видели в этом ничего удивительного, они считали, что так всегда и бывает.
Особенно веселились пессимисты, подверженные тяжелым депрессиям, — тем мерещилось, что после похорон земная жизнь кончается.
Воскрешение Алевтины убедило черных меланхоликов в том, что их болезнь поддается лечению.
* * *
— О, Алевтина! Какими судьбами?
— В гробу ты так хорошо выглядела!
— И сейчас неплохо…
— Но в гробу лучше. Ты была такая интересная!
— В гробу все такие нарядные! Торжественные!
— Алевтина, я тебе советую, когда в другой раз будешь хорониться, не надевай ты это черное платье… Тебе твое бутылочного цвета больше идет… Такое веселенькое!
— Тина, как тебе под землей?
— Чертей видала?
— Может, ты от них и сбежала?
— Много наших в преисподней?
— Псих! Ведьма не была в преисподней, замерзла в своей могиле и вылезла!