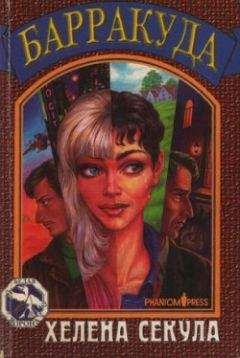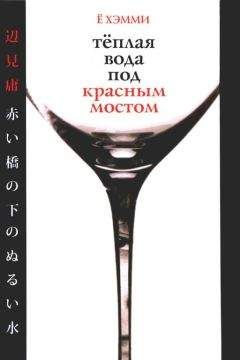И последний документ:
Я, Орлано Хэррокс, настоящим свидетельствую следующее.
Под влиянием Пендрагона Станнингтона и будучи полностью зависимым от него, я составил подложную справку, которая стала основанием для выдачи свидетельства о рождении Этера-Карадока Станнингтона, вписав по требованию Пендрагона Станнингтона следующие данные матери: «Люсьен Бервилль, рожденная в Канаде».
Девочка, на основании моей справки вписанная в регистр мертворожденных детей и получившая свидетельство о смерти на имя Синтия Суражинская, на самом деле являлась мертворожденным ребенком из двойни (мальчик и девочка), родившейся у чернокожей санитарки Люсьен Бервилль, работавшей в клинике «Континенталь».
Я излагаю подлинные сведения ради Этера-Карадока Станнингтона. Однако я не собираюсь предавать огласке эти данные при жизни его отца, поскольку по-прежнему финансово завишу от Пендрагона Станнингтона, а также ввиду уголовной ответственности за подлог.
Свидетельство было написано в июне семьдесят четвертого года, в тот день, когда молодой Станнингтон пришел в клинику доктора Хэррокса.
Кем была мать Этера?
Уцелевшее от резни последнее дитя женщины, у которой не осталось больше близких. Человеческий осколок между голодом, холодом, преступлением, между фронтами на измученной, истерзанной земле, где вместо пшеницы колосились мины. Мины против людей, мины против зверей, мины против земли, воды и травы.
Человеческий осколок из расстрелянного села, занесенный в огромный мертвый город. Семилетняя эмигрантка из страшного мира, который умом ни охватить, ни понять. Безграмотный ребенок матери, умевшей писать только свое имя. Из одной нищеты в другую, из стертой с лица земли деревни в каменное равнодушие Большого Города, в его многонациональную нищету.
Она очутилась подле богатства, обилия, неслыханной роскоши и транжирства, ее пищей стал миф преуспеяния, о котором трубят масс-медиа…
А вот и эпилог печальной истории. Совсем свежий отчет специализированного детективного агентства Харриса:
Ядвига Вахневич, урожденная Бортник-Суражинская, творческий псевдоним – Гая. Разведена, дочь Ханна четырнадцати лет, мать Станислава. Проживает: Варшава, Садыба… Скульптура, сценография, ковроткачество. Выставки: Париж, Нантер, Варшава, выставка и аукцион у Гермеса, галерея на Мэдисон-авеню…
На внутренней стороне обложки вклеена большая фотография.
Роскошные волосы собраны в тяжелый узел. Ласковые, кроткие глаза, чуть грустные, чуть усталые. Лицо без улыбки, упрямый лоб и две горькие резкие складки от тонких ноздрей вниз, к углам губ. Все еще чистый овал лица над гладкой шеей… или это тонкий комплимент фотографа.
«Мистер Оскерко, если я не выживу… Я любил своего ребенка, любил себя…» – умирая, написал Станнингтон на вырванном из блокнота листке.
Он не уничтожил ни одной бумаги, свидетельствующей против него, хотя мог это сделать.
Ни хрена себе проблемка. Я не сообщила Станнингтону про документы из клиники «Континенталь», которые свистнула из сейфа Ванессы. Боялась признаться, что насобачилась открывать ее сейф, а еще больше страшилась того, что в этих документах. На кой ляд я их взяла? Рефлекс собаки Павлова. Как оправдание перед старым аллигатором, что сорвалась от Ванессы без его позволения. Неклево получилось.
Ни проглотить, ни выплюнуть.
Отдать старому Станнингтону? Ведь ни за что не поверит, что я не взглянула одним глазком, что там внутри. Старому щитоморднику наверняка не понравится, что на свете живет еще один поверенный его семейных тайн. Не дай бог со мной что-нибудь приключится, как с тем бостонским коллекционером интимной информации о клиентах клиники.
Отдать Этеру? Ну, в таком случае его папахен на сто процентов вычеркнет меня из списка живых. И впрямь найдет хоть в Патагонии. Я в это верю безгранично. Успела убедиться в его возможностях.
Спрятать бумажки и никому ни слова? С тем же успехом я могу лечь спать в мешок с гадюками. До меня может добраться Ванесса, потому что у нее тоже пятая клепка в башке давно отлетела, денег навалом, и она сейчас седеет со страху при мысли о том, что за бумаги пропали из ее сейфа.
Я выпустила из бутылки джинна.
Горе слабакам, которым суждено оказаться меж клинков дуэлянтов!
Мне не защититься от всех.
Ладно, первым делом надо выбраться отсюда и хорошенько спрятать бумаги. Мамин дом должен остаться чистым. Не хватало только, чтобы на старости лет ее дом переворачивали вверх дном какие-нибудь гнойные прыщи или легавые. Да и у меня не осталось бы места на этой земле…
Надо бы устроить себе какую-никакую хавиру на отлете.
На первое время квартира Этера – то, что доктор прописал, а потом постараюсь что-нибудь подыскать, хотя это и непросто. Какой-то вшивый молодежный журнал стравил бомжей и домовладельцев. Люди стали бояться сдавать квартиры, а то еще пришьет кто…
Пока не было надобности, я не хотела выступать в качестве иностранки Сюзанны Карте, готовой снять квартиру за валюту. Не стану я кормить многоэтажную нашу бюрократию в бюро по недвижимости. Это противоестественно, все равно как если бы мышь за котом гонялась.
И как можно меньше рисковать головой Сюзанны – последней стрелой в моем колчане. В Варшаве заполучить хорошие документы труднее, чем крышу над головой. Чтобы дойти до источника, надо целое состояние скормить армии посредников.
Я забрала оставленные Этером ключи.
«Располагайся как у себя дома, если тебе что-нибудь понадобится, поговори с пани Виташковой, это моя домработница. Она живет в деревне, дом десять», – написал он на листочке, прикрепленном к ключам.
Я двинулась на Стегны, где находилась его городская квартира.
Высотки и одноэтажные павильоны бытовых услуг в новом районе нашлепали в шахматном порядке. Все аккуратное, симметричное и анонимное. Все равно эти места красивее не станут, хоть лесом засади. Люди в таких районах не выдерживают.
Наверное, только благодаря этой аккуратной монотонности, открытым площадям и пустынным улицам, я заметила какое-то подозрительное движение возле своей персоны.
Я была готова к чему-то подобному, но не ожидала, что все произойдет так быстро. И слишком поздно поняла: они здесь, кем бы они ни были. Наверное, взяли пеленг на адрес Этера и теперь караулили, как пауки в паутине.
Полдня я уходила от «хвоста». Врагу не пожелаю влипнуть в такой компот в Варшаве. До сей поры машины у меня не было, вот и пришлось играть муниципальным транспортом в казаки-разбойники. Такси – это как мед у Винни-Пуха: «только он есть – и его сразу нет». Одни очереди на стоянках.
Столица ты моя европейская. Бегала я, бегала, пока в намертво забитом автобусе не потеряла сабо и «хвост». Двери его прищемили. «Хвост», а не сабо. Поскольку мой горе-шпик торчал больше внутрь, чем наружу, сочувствующие пассажиры втянули его в салон, освобождая из лап взбешенной пневматики. Потом ему пришлось еще и пробираться через весь автобус к другим дверям. Он упустил время, я наверстала. Ненадолго.
Галопом домой. Собрала кое-какие мелочи. Некогда было даже изменить внешность.
– Легавые? – огорчилась мама.
– Легавые, но не с казенной псарни.
– И за то спасибо Господу, – набожно вздохнула мама. – Деточка, как ты думаешь, они сюда доберутся?
– Не знаю. Если придут, скажи им, что я – это не я.
Остаток дня я провела в музее. Тихо, кондиционер работает, от шедевров веет покоем, людей мало. Тут еще легче заметить слежку, чем на просторных Стегнах. Но в музейных залах искать меня не стали.
Когда стемнело, я нашла телефоны и адреса Оскерко в телефонной книге. Позвонила в контору – тишина. Звоню домой – женский голос.
Я молча повесила трубку. Главное, что дома кто-то есть. Оставлю у них бумаги и оттуда позвоню Станнингтону. Если за мной охотится его свора, пусть скомандует им «к ноге», а если это посланцы Ванессы, то в Станнингтоне я найду союзника, хотя союзник очень смахивает на врага. Но у нищих нет выбора.
Однако у дома адвоката меня поджидали. И здесь мне улыбнулся фарт, друг всех беглецов. Когда я оказалась перед калиткой на безлюдной улочке Райских Птиц, где в двух шагах – черная стена Кабацкого леса, за моей спиной выросли две неясные фигуры. И в тот же миг в доме адвоката распахнулись двери, а из мрака выскочил огромный черный пес и поднял жуткий лай.
Протянутые было ко мне хищные лапы растворились в темноте, словно померещились.
– Оскерко-старший дома? – крикнула я, чтобы отпугнуть ищеек.
– Прошу вас. – Это был Бей.
Он открыл мне калитку, и пес со свирепым лаем вырвался на улицу.
День с самого утра киснул в моросящем дождичке, вечером сгустилась чернильная темнота. Скорее октябрь, а не конец августа. Тепло от земли соединялось с холодным воздухом и клубилось по ногам туманом. Люди на крыльце дома словно плыли по колено в этом белом облаке.