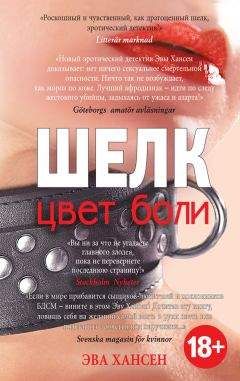Ознакомительная версия.
— Это отличный кусок мозгов, — объяснила я. — Я позаимствовала его в кладовой. Мисс Мюллет купила его у Карнфорта, чтобы приготовить сегодня на ужин. Она будет в ярости.
— И ты?… — спросил он, потирая руки.
— Да, именно. Я вколола ему два с половиной кубических сантиметра четыреххлористого углерода. Именно такова емкость шприца Бонепенни. Средний человеческий мозг весит три фунта, — продолжала я. — Мужской, может быть, немного больше. Я отрезала лишних пять унций на всякий случай.
— Как ты об этом узнала? — спросил инспектор.
— В какой-то из книг Артура Ми. Наверное, снова из «Детской энциклопедии».
— И ты проверила этот… мозг на наличие четыреххлористого углерода?
— Да, — ответила я. — Но только через пятнадцать часов после того, как сделала укол. Я прикинула, что между тем, когда Бонепенни укололи, и вскрытием прошло примерно столько времени.
— И?
— Все еще легко обнаружить, — сказала я. — Детская игра. Естественно, я использовала п-амино-диметиланилин. Это довольно новый опыт, но элегантный. Был описан в «Аналитике» пять лет назад. Пододвиньте стул, и я покажу вам.
— Это не сработает, знаешь ли, — хмыкнул инспектор Хьюитт.
— Не сработает? — удивилась я. — Конечно, сработает. Я уже один раз проводила его.
— Я имею в виду, что тебе не удастся заморочить меня лабораторной работой и ускользнуть от темы марки. В конце концов, все случилось именно из-за нее, не так ли?
Он загнал меня в угол. Я собиралась умолчать об «Ольстерском Мстителе» и потом тихо отдать его отцу. Кто сумел бы лучше распорядиться им?
— Послушай, я знаю, что она у тебя, — сказал он. — Мы нанесли визит доктору Киссингу в Рукс-Энд.
Я постаралась принять непонимающий вид.
— И Боб Стэнли, твой мистер Пембертон, сказал нам, что ты украла у него марку.
Украла у него? Что за мысль! Какое нахальство!
— Она принадлежит королю, — запротестовала я. — Бонепенни украл ее на выставке в Лондоне.
— Ладно, кому бы она ни принадлежала, это похищенная собственность, и мой долг — проконтролировать ее возвращение. Все, что мне надо знать, — это как она попала к тебе.
Черт бы побрал этого человека! Я больше не могла водить его за нос. Придется сознаться в походах в «Тринадцать селезней».
— Давайте заключим сделку, — предложила я.
Инспектор Хьюитт захохотал.
— Иногда, мисс де Люс, — объявил он, — вы заслуживаете медаль. И иногда вы заслуживаете того, чтобы вас заперли в комнате на хлебе и воде.
— А сейчас какой случай? — поинтересовалась я.
Уфф! Осторожно, Флейв.
Он взмахнул пальцами в мою сторону.
— Я слушаю, — сказал он.
— Ну, я подумала, — заговорила я, — что жизнь отца не была особенно приятной в последние дни. Сначала вы приехали в Букшоу и, не успели мы понять, что происходит, обвинили его в убийстве.
— Тише, тише, — сказал инспектор. — Мы уже проходили это. Его обвинили в убийстве, потому что он сознался.
Сознался? Вот это новость!
— И не успел он сделать это, как появляется Флавия. Я получил больше признаний, чем Лурдская богоматерь в субботнюю ночь.
— Я просто хотела его, — сказала я. — В тот момент я думала, что он виноват.
— А кого он пытался защитить? — спросил инспектор Хьюитт, внимательно на меня глядя.
Ответ, конечно, был: Доггер. Вот что имел в виду отец, когда сказал: «Я боялся этого», когда я рассказала ему о том, что Доггер тоже слышал сцену в кабинете с Горацием Бонепенни.
Отец подумал, что Доггер убил его, это очевидно. Но почему? Доггер совершил это из преданности или во время одного из своих приступов?
Нет, лучше не впутывать Доггера в это дело. Это самое меньшее, что я могу сделать для него.
— Наверное, меня, — соврала я. — Отец подумал, что я убила Бонепенни. В конце концов, разве не меня обнаружили, так сказать, на месте преступления? Он пытался защитить меня.
— Ты на самом деле веришь в это? — поинтересовался инспектор.
— Мне было бы приятно так думать, — ответила я.
— Уверен, что так оно и было, — согласился инспектор. — Совершенно уверен. Теперь вернемся к марке. Я не забыл о ней, не надейся.
— Ну, как я и говорила, я хотела бы сделать что-то для отца, что-то такое, что сделает его счастливым, хотя бы на несколько часов. Я бы хотела отдать ему «Ольстерского Мстителя», хотя бы на один-два дня. Позвольте мне сделать это, и я расскажу вам все, что знаю. Обещаю.
Инспектор прошелся к книжным полкам, снял переплетенный том «Заседаний химического общества» за 1907 год и сдул облако пыли с обложки. Он небрежно пролистал несколько страниц, как будто в поисках, что сказать.
— Ты знаешь, — начал он, — моя жена, Антигона, больше всего ненавидит делать покупки. Она однажды сказала мне, что предпочла бы пойти к стоматологу, чем потратить полчаса на покупку ноги барашка. Но ей приходится идти в магазин, нравится ей или нет. Это ее участь, говорит она. Чтобы смягчить печаль, она иногда покупает маленькую желтую брошюрку под названием «Вы и ваши звезды». Должен признать, что до сих пор я фыркал, когда она мне зачитывала за завтраком отрывки оттуда, но этим утром мой гороскоп сказал — я цитирую: «Ваше терпение будет испытано в высшей степени». Ты меня понимаешь, Флавия?
— Пожалуйста! — взмолилась я.
— Двадцать четыре часа, — отрезал он. — И ни минутой больше.
И внезапно из меня хлынул словесный поток, я выложила все о мертвом бекасе, вполне невинном (хотя несъедобном) торте мисс Мюллет, обыске номера Бонепенни, обнаружении марок, визитах к мисс Маунтджой и доктору Киссингу, столкновениях с Пембертоном в Причуде и возле церкви и моем плене в ремонтном гараже.
Единственным, о чем я умолчала, был эпизод с отравлением помады Фели экстрактом ивы. Зачем смущать инспектора несущественными деталями?
Пока я говорила, он время от времени делал записи в маленьком черном блокноте, страницы которого, как я заметила, были заполнены стрелками и загадочными знаками, которые могли быть вдохновлены алхимическими формулами Средних веков.
— Я тоже тут есть? — спросила я, указывая на блокнот.
— Да, — ответил он.
— Можно посмотреть? Только один взгляд?
Инспектор Хьюитт захлопнул блокнот.
— Нет, — возразил он, — это конфиденциальный полицейский документ.
— Вы полностью пишете мое имя или я упомянута каким-нибудь символом?
— У тебя есть свое собственное обозначение, — ответил он, засовывая блокнот в карман. — Ладно, мне пора идти.
Он протянул руку и крепко сжал мою ладонь.
— До свидания, Флавия, — сказал он. — Это был… особенный опыт.
Он подошел к двери и открыл ее.
— Инспектор…
Он остановился и обернулся.
— Какое оно? Мое обозначение, имею в виду?
— Это «Я», — ответил он, — большая буква «Я».[64]
— «Я»? — удивилась я. — Что она обозначает?
— А, — сказал он, — это лучше оставить на волю воображения.
Даффи сидела в гостиной, растянувшись на ковре и читая «Узника Зенды».[65]
— Ты замечаешь, что у тебя шевелятся губы, когда ты читаешь? — поинтересовалась я.
Она проигнорировала меня. Я решила рискнуть жизнью.
— К вопросу о губах, — сказала я, — где Фели?
— У доктора, — ответила она. — У нее какая-то аллергия.
Ага! Мой эксперимент увенчался блистательным успехом! Никто не узнает. Как только у меня будет время, я запишу в дневник:
«Вторник, 6 июня 1950 г., 13:12. Успех! Результат — как и ожидалось. Справедливость восторжествовала».
Я тихо фыркнула. Даффи, должно быть, услышала, потому что она перевернулась и скрестила ноги.
— Не подумай даже на секунду, что тебе удастся выйти сухой из воды, — спокойно заявила она.
— Хмм? — протянула я. Изображать невинное удивление — это моя специальность.
— Что за ведьминское зелье ты подмешала ей в помаду?
— Понятия не имею, о чем ты говоришь, — сказала я.
— Посмотри на себя в зеркальце, — предложила Даффи. — Только смотри не разбей.
Я повернулась и медленно подошла к полке над камином, где висел мутный пережиток эпохи Регентства и тускло отражал комнату.
Я придвинулась ближе, рассматривая свое отражение. Сначала я ничего такого не заметила — привычный образ прекрасной меня: фиалковые глаза, бледная кожа, но, присмотревшись, в искаженной амальгаме я разглядела детали.
У меня на шее было пятно. Ярко-красное пятно! В том месте, где меня поцеловала Фели!
Я испустила вопль.
— Фели сказала, что в гараже она отплатила тебе в полной мере.
Не успела Даффи перекатиться обратно на живот и вернуться к своему дурацкому романтическому роману, как у меня созрел план.
Однажды, когда мне было лет девять, я записала в дневнике, что значит быть де Люсом или, по крайней мере, что значит быть конкретно мной. Я долго думала о своих ощущениях и наконец пришла к выводу, что быть Флавией де Люс — все равно что быть сублиматом: черным хрустальным осадком, остающимся на холодном стеклянном дне пробирки после выпаривания йода. В то время я сочла это идеальным описанием, и за последние два года ничего такого не случилось, что могло бы изменить мое мнение.
Ознакомительная версия.