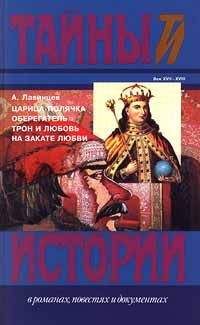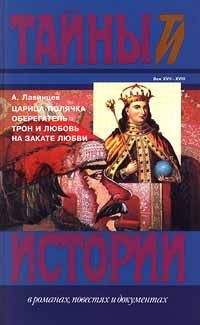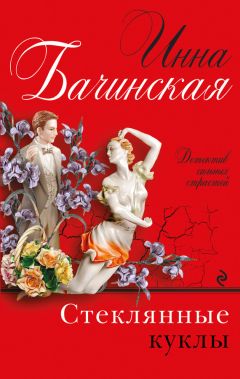«И сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море».
Апокалипсис, 16:3
Незадолго до кончины Деррин иногда будила меня, подергивая за воротничок рубашки, глаза ее бегали, как стеклянные шарики в банке, голос молил о помощи. Страдания были ужасны, но ведь она прожила еще один день.
В те последние месяцы кожа ее напоминала пергамент, туго обтягивающий кости. Она потеряла все волосы, осталась только щетинка над ушами. Но меня это нисколько не беспокоило. Будь у меня выбор прожить сутки с Деррин времен нашего знакомства или всю жизнь с такой, как в конце, я, ни секунды не раздумывая, выбрал бы второе. При мысли о существовании без нее у меня останавливалось дыхание.
Деррин была на семь лет моложе, в тридцать два года у нее обнаружили опухоль. Четыре месяца спустя она упала в супермаркете. Я был журналистом, проработал в газете восемнадцать лет, но, когда это опять случилось в метро, уволился, стал внештатником и отказался от командировок. Решение это далось легко. Я не хотел находиться в другом конце мира, когда мне позвонят в третий раз и скажут, что она умерла.
В день, когда я ушел из газеты, Деррин показала мне место, которое выбрала для себя на кладбище в северной части Лондона. Посмотрела на могилу, на меня и улыбнулась. Я это ясно помню. В мимолетной улыбке было столько боли и страха, что мне захотелось что-нибудь разнести. Колотить и колотить, пока не притупятся ощущения. Вместо этого я взял ее за руку и привлек к себе, дорожа каждой оставшейся нам секундой.
Когда стало ясно, что химиотерапия не помогает, Деррин решила прекратить лечение. В тот день я плакал, горько плакал, пожалуй, впервые с раннего детства. Но — оглядываясь назад — это решение было правильным. Она не потеряла достоинства. Без посещений больницы и последующей реабилитации наша жизнь стала привольнее, и провести так какое-то время было замечательно. Деррин много читала, шила, а я работал по дому, красил стены, приводил в порядок комнаты. А через месяц после ее отказа от химиотерапии решил заработать на оборудование кабинета. Деррин считала, что мне необходимо место для работы.
Только работы не было. Задания давали — главным образом из сочувствия, — но из-за отказа ездить в командировки ко мне обращались лишь в крайнем случае. Я превращался во внештатника отвратительного мне типа. Становиться таким не хотелось. Но день ото дня Деррин значила для меня все больше, и приходилось считаться с обстоятельствами.
Однажды я вернулся домой и на столе в гостиной обнаружил письмо от подруги Деррин. Она была в отчаянии. Исчезла ее дочь, а полиция якобы не занималась поисками. По ее мнению, я единственный мог помочь. Вознаграждение она предложила очень большое — больше, чем стоили несколько телефонных звонков, — но сама по себе идея вызвала у меня странные чувства. Деньги мне были нужны, в лондонской полиции имелись знакомые, способные найти пропавшую дочь за несколько дней. Только я не хотел связывать прежнюю жизнь с новой. Не хотел возврата к прошлому.
Поэтому решил отказаться. Но когда вышел с этим письмом в сад, Деррин покачивалась в кресле-качалке и улыбалась.
— Что тебя веселит?
— Ты не знаешь, стоит ли браться за это дело.
— Знаю, — сказал я. — Не стоит.
Деррин кивнула.
— Думаешь, мне следует за него взяться?
— Для тебя это в самый раз.
— Гоняться за сбежавшими детьми?
— Для тебя это в самый раз, — повторила она. — Воспользуйся, Дэвид, этой возможностью.
Вот так все и началось.
Я подавил сомнение и через три дня нашел девушку в Уолтемстоу. Затем последовал розыск других пропавших детей, и я вернулся к своей прежней работе. Задавал вопросы, звонил по телефону, шел по следу. Детективная сторона журналистики всегда нравилась мне больше, чем литературная. И, разыскивая беглецов, я чувствовал себя на своем месте, ведь процесс был тем же самым. В большинстве случаев главное в поиске пропавших без вести — желание их найти. У полицейских нет времени отыскивать каждого ушедшего из дома подростка — и, думаю, иногда они не понимают главной причины, по которой дети исчезают. Как правило, не с целью доказать что-то, просто в их жизни случается непоправимое, и единственное спасение — это бегство. А потом дети попадают в западню и не могут вернуться.
Впрочем, несмотря на то что ежедневно исчезают сотни детей, зарабатывать на жизнь их розыском я не собирался. Мне это никогда не казалось работой в отличие от журналистики. Однако вскоре я стал получать хорошие деньги. Деррин убедила меня снять офис неподалеку от нашего дома, чтобы я не торчал подле нее, а самое главное — убедился, что могу сделать свое занятие профессией. Она называла это долгосрочным планом.
Через два месяца Деррин умерла.
Когда я открыл дверь кабинета, на меня повеяло холодом, на полу лежали четыре конверта. Я бросил почту на письменный стол и раздвинул шторы. Ворвался утренний свет, и стали видны фотографии Деррин. На одной, моей любимой, мы были в пустынном прибрежном городке во Флориде, песчаный пляж полого спускался к морю, повсюду валялись словно бы целлофановые медузы. В закатных лучах Деррин выглядела потрясающе. Глаза светились голубым и зеленым. На носу и скулах виднелись веснушки. Светлые волосы побелели от солнца, контрастируя с загорелой кожей.
Я сел за стол и придвинул фотографию.
На снимке мои глаза были темными, волосы черными, на подбородке и на щеках пробивалась щетина. При росте шесть футов два дюйма я высился над Деррин, прижимая ее к себе, и голова ее покоилась на моей груди.
Физически я все тот же. Когда есть возможность, тренируюсь. Внешностью своей горжусь. Все еще хочу выглядеть привлекательно. Но — может быть, на время — какой-то блеск исчез. И, как у родителей пропавших детей, искорка в глазах потухла.
Я повернулся на стуле и взглянул на них. На тех, кого разыскивал.
Их лица заполняли пробковую доску на стене за моей спиной. Целиком и полностью. Фотографий Деррин здесь не было.
Только снимки без вести пропавших.
После того как я нашел первую девушку, ее мать разместила сообщения об этом; сперва на доске объявлений в отделении больницы, где работала вместе с Деррин, потом в витринах нескольких магазинов, указав мое имя и телефон. Думаю, она пожалела меня, зная, что я нигде не работаю. Люди до сих пор звонят мне и просят помощи, говоря, что видели объявление в больнице. И пожалуй, мне нравится, что оно все еще висит. Где-то в лабиринте коридоров. Или, выгорев на солнце до желтизны, в витрине магазина. В этом есть какое-то утешение. Деррин словно бы живет в том, что я сделал.
Почти весь день я просидел за столом при выключенном свете. Несколько раз звонил телефон, но я не брал трубку, слушая, как звонки оглашают кабинет. Ровно год назад Деррин вынесли из нашего дома на носилках. Через семь часов она умерла. И я понимал, что в таком состоянии духа не могу думать о работе, поэтому, когда часы пробили четыре, стал собираться.
И тут приехала Мэри Таун.
Я услышал, что кто-то поднимается по лестнице, медленно одолевая ступеньку за ступенькой. Наконец наружная дверь щелкнула и со скрипом открылась. Когда я выглянул, в приемной сидела Мэри. Мы были знакомы несколько лет. Она работала с Деррин в больнице. Ее жизнь тоже была трагичной: муж страдал болезнью Альцгеймера, а сын шесть лет назад ушел из дома, никому ничего не сказав. В конце концов его нашли мертвым.
— Привет, Мэри.
Я испугал ее. Она вскинула глаза. Лицо избороздили морщины, обозначив каждый год из пятидесяти. Должно быть, некогда она была красивой, но жизнь обошлась с ней жестоко, и душевные страдания отразились на ее внешности. При низком росте она еще и сутулилась. Щеки и губы поблекли. В волосах серебрилась седина.
— Привет, Дэвид, — негромко сказала она. — Как поживаешь?
— Хорошо. — Я пожал ее руку. — Давно не виделись.
— Да. — Она потупилась. — Год.
Мэри имела в виду похороны Деррин.
— Как Малькольм?
Так звали ее мужа. Она взглянула на меня и пожала плечами.
— Ты далеко от дома, — заметил я.
— Да. Мне нужно было повидать тебя.
— Зачем?
— Хотела с тобой кое-что обсудить.
Интересно, что именно.
— Я не могла до тебя дозвониться.
— Да.
— Звонила несколько раз.
— Видишь ли… — Я оглянулся на фотографии Деррин. — Сейчас у меня довольно трудное время. Особенно сегодня.
Мэри кивнула:
— Я знаю. Извини, Дэвид. Но ведь ты неравнодушен к тому, что делаешь. К своей работе. Мне нужен такой человек. Неравнодушный. — Она снова взглянула на меня. — Вот почему ты нравишься людям. Ты сознаешь утрату.