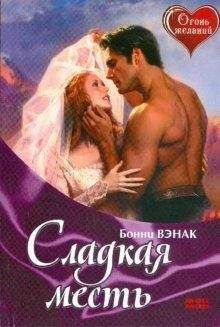— Моя фамилия Уивер. Я англичанин, только что приехал на несколько дней. Мистер Голицын меня не знает, но у нас есть общий друг в Берлине, Райнер Мауритц, который дал мне его телефон и посоветовал нам встретиться, чтобы обсудить проект фильма. — Инстинктивная осторожность побудила меня солгать.
— Отца сейчас нет дома, — сказала девушка, — но я передам ему о вас, как только он придет. Вы продюсер?
— Вроде того. Вообще-то я писатель. Но с прессой ничего общего не имею, — добавил я на всякий случай, чтобы она не беспокоилась.
— Где вас можно найти?
Я сообщил название гостиницы и номер комнаты.
— Он непременно свяжется с вами сегодня вечером, — пообещала она.
Остаток дня я прогуливался по окрестностям и наблюдал. Первое, что меня поразило, — это магазины, заполненные, как мне показалось, остатками от распродажи какого-то гаража. У дверей всех «гастрономов» (оруэлловское название для пустых продовольственных магазинов[17]) стояли очереди. Ясно, как никогда раньше, я осознал сюрреалистический кошмар ежедневной борьбы за выживание, которую ведет средний русский. Улыбающихся людей в очередях не было — сплошь сердитые лица. Я подумал о том, каким промыванием мозгов для меня были старые пропагандистские фильмы о счастливых трактористах, собиравших несуществующие (как теперь выяснилось) урожаи. Как странно мне было бродить по улицам, которые я столько раз описывал! Я смешался с толпой, собравшейся перед штаб-квартирой КГБ. Кто-то выкрикивал непонятные объявления в громкоговоритель. Мужчину, стоявшего впереди меня, внезапно вырвало. Потом я попал в окружение полудюжины девушек-цыганок с маленькими детьми; свободные руки у них были протянуты за милостыней. Я раздал несколько фунтов и едва унес ноги.
Ближе к вечеру я вернулся в гостиницу и осведомился, нет ли для меня какого-нибудь сообщения. Мне ответили, что нет, причем даже сам вопрос, как мне показалось, вызвал подозрение. Я подумал, не позвонить ли Голицыну еще раз, но решил этого не делать: моя чрезмерная настойчивость могла его насторожить. Я не представлял себе, что он за человек, напугал его мой звонок или обрадовал. Райнер уверял меня в его надежности, но даже Райнер не имел понятия о том, что значит жить в России. Он прожил жизнь в Западном Берлине таким же сторонним наблюдателем, как и я. Откуда нам все это знать — нам, принимающим свободу как должное?
Когда я пошел через вестибюль обратно к выходу, меня остановил мужчина средних лет в довольно хорошо сшитой куртке спортивного типа, с перекинутым через руку пальто. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, затем он спросил:
— Мистер Уивер?
— Да.
— Я Голицын.
Мы обменялись рукопожатиями.
— Очень рад, что вы пришли, — сказал я. — Надеюсь, я не причиняю вам неудобства?
— Нет, я виноват, что не смог добраться раньше. — Как и у Райнера, в его речи чувствовалось американское произношение, но говорил он по-английски бегло.
— Может быть, зайдем куда-нибудь выпьем?
— Хорошо, только не здесь — здесь цены для иностранцев.
— Ну и прекрасно. Я иностранец, и я плачу.
— Нет-нет, прошу вас, лучше поедем ко мне домой.
— Если бы вы позвонили, мы могли бы встретиться прямо там, и вам не пришлось бы ехать.
— Телефоны в гостинице всегда прослушивались, вряд ли сейчас что-нибудь изменилось. — Он направился к выходу.
— Что, разве это не кончилось?
— Сейчас нас в этом убеждают.
— А вы не верите?
Он ответил не сразу. Мы прошли в боковую улицу, и он отпер дверцу своей небольшой отечественной машины «Жигули» — содранной с модели «фиата» шестидесятых годов. Мне вспомнились услышанные когда-то анекдоты; например, один русский хвастался: «Я купил машину. Через десять лет подойдет очередь на колеса».
— Верю ли я им? — переспросил он, с грохотом включая рычаг передачи. — Хотелось бы, но важнее убедиться в том, что им и дальше можно будет верить. В газетах, например, пишут, что скоро овощи в магазинах появятся. Посмотрим, посмотрим. Вы давно знакомы с нашим другом Райнером?
— О, уже много лет, правда, я его давно не видел. Он сказал, что вы занимаетесь тем же делом, что и он.
— Дело у меня то же, верно. Но снимать фильмы в России — совсем не то, что в Голливуде или Берлине, по крайней мере раньше. Здесь, когда вам нужно что-нибудь из оборудования, вы должны подписать дюжину бумаг. Наши графики работ измеряются не неделями, а годами. Я не жалуюсь, нет, я еще в числе привилегированных: у нас с дочерью отдельная квартира и, как видите, какая-никакая машина. Но вот работа — работа кончилась вместе со старым режимом. И неизвестно, возобновится ли.
— Вы не женаты?
— Моя жена умерла, — сухо сказал он и сменил тему. — Эту куртку, которую я ношу, я получил от Райнера. Ее носил Джордж Сигэл в «Меморандуме Квиллера».[18] Говорят, хороший был фильм. Вы его не видели? Ах да, конечно, вы его не могли. Надо же спросить такую глупость.
Потом он рассказывал о фильмах, которые ему приходилось снимать. Наконец мы подъехали к облупившемуся особняку — одному из многих, составлявших, как я успел заметить, отличительную особенность Москвы. Я представил себе, что в этих элегантных когда-то домах жили богатые семьи. Они чем-то походили на лондонские постройки времен Форсайтов, но теперь, как и их тамошние двойники, были поделены на квартиры — кроличьи клетки. Внутри подъезда, где жил Голицын, горела тусклая лампочка, и здесь тоже, как и в гостинице, чувствовались застарелые кухонные запахи. Где-то наверху звучала мелодия «Битлз».
Голицын поднялся на третий этаж. В отличие от гостиничного номера, его квартира производила приятное впечатление. Меня провели в довольно тесную комнату — комбинированную гостиную и кухню. Дочь Голицына, лет двадцати с небольшим, сидела у стола, покрытого узорчатой клеенкой, такими пользовалась еще моя бабушка. Рыжеватая кошка на подоконнике пыталась поймать муху.
— Познакомьтесь, это Любава, моя дочь.
Любава поднялась из-за стола, отодвинув в сторону бумаги, с которыми работала. Она воскрешала в памяти образ героинь Г.Э. Бэйтса[19] — пышные взъерошенные волосы, ясные голубые глаза, чистое лицо без признаков косметики — лицо, глядя на которое ощущаешь, как начинает сильнее биться сердце.
— Да, мы уже разговаривали по телефону. Здравствуйте!
Она была в джинсах и свитере с надписью «BANANA REPUBLIC», который, как я догадался, тоже был подарком Райнера; он плотно облегал ее округлую грудь.
— Что-нибудь выпьем? — предложил Голицын. — Как вы насчет лимонной водки, мистер Уивер?
— Никогда не пробовал.
— Может быть, мистер Уивер предпочитает кофе?
— Нет, водка — это очень заманчиво. И пожалуйста, зовите меня Мартин.
Водку разлили, и мы пожелали друг другу здоровья. Его дочь с нами не пила. Мне не терпелось начать разговор о том, зачем я приехал, но из вежливости я спросил, чем она занимается.
— Работаю с отцом, его ассистентом.
— Конечно, когда я сам работаю, — добавил Голицын. — По образованию она дизайнер. Покажи ему что-нибудь из своих набросков.
— Не смущай меня, папа. Ничего интересного в них нет.
— Дело в том, Мартин, что нужно иметь знакомство с кем-нибудь, у кого знакомый его знакомого сидит наверху и может дернуть за нужные ниточки, чтобы вы попали туда, куда хотите. У нас это называется «блат». А у вас?
— Может быть, влияние?
— Намного сильнее. Влияние плюс взятка. И ничего не изменилось.
Я, кажется, уловил в его речи легкую заминку; он бросил взгляд на дверь, словно все еще ожидал, что кто-то ворвется и изобличит его.
— Возможно, теперь это изменится. Моя дочь слишком талантлива, чтобы провести жизнь моим ассистентом. Слишком талантлива и слишком скромна.
Как только я опрокинул в рот первую рюмку водки, он налил вторую.
— Так зачем вы сюда приехали? — спросил он. — Снимать фильм?
— Не совсем так.
Я перевел взгляд с дочери на отца, подбирая нужные слова, чтобы изложить свое дело.
— Прошу простить меня за то, что не был с вами до конца откровенен при первом разговоре. Я здесь плохо ориентируюсь и боялся вам навредить.
Голицын поставил рюмку на стол.
— Навредить? Чем же?
Кратко, как только мог, я рассказал им о своей давней дружбе с Генри, а потом о своих подозрениях и тревоге по поводу обстоятельств его смерти. Я не удивился тому, что они ничего не знали о самоубийстве малоизвестного члена английского парламента: скорее всего, об этом даже не сообщалось в московских газетах. Когда я закончил свои сбивчивые объяснения, ни Голицын, ни его дочь не проронили ни слова.
— У меня здесь нет никаких знакомых, кроме вас, я не говорю на вашем языке и не представляю, как взяться за это дело. Стало быть, я целиком в ваших руках. Если вы ничего не можете для меня сделать, скажите, я все пойму.