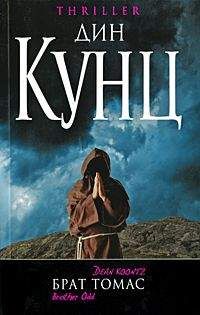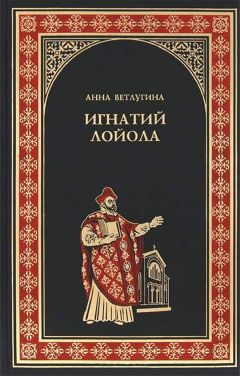Сильной она не была. И особо меня не волновала. Физическая боль, в отличие от других, рано или поздно уходит.
Когда я выключал воду, большой белый Бу смотрел на меня сквозь запотевшую стеклянную дверь.
Вытершись насухо и надев трусы, я опустился на колени на пол и почесал пса за ушами, отчего он довольно улыбнулся.
— Где ты прятался? — спросил я его. — Где ты был, когда какой-то злодей пытался заставить мои мозги вылезти из ушей? А?
Он не ответил. Продолжал улыбаться. Мне нравятся старые фильмы братьев Маркс,[8] и Бу во многих смыслах собачий Харпо Маркс.
Моя зубная щетка весила никак не меньше пяти фунтов. Но, даже вымотанный донельзя, я не могу лечь спать, не почистив зубы.
Несколькими годами раньше я присутствовал при вскрытии, когда судебный эксперт во время предварительного осмотра трупа сказал в микрофон, что усопший плохо следил за зубами. Мне стало неудобно за покойника, который был моим другом.
Я надеюсь, что те, кому придется присутствовать при моем вскрытии, таких неудобств испытывать не будут.
Вы можете подумать, будто глупо гордиться тем, что ты всегда ложишься спать, почистив зубы. Вероятно, правота на вашей стороне.
Тем не менее, чистя на ночь зубы, я убеждал себя, что всего лишь забочусь о чувствах тех свидетелей вскрытия, которые могли знать меня при жизни. Тем более что особых усилий такая забота обычно не требовала.
Когда я вышел из ванной, Бу лежал на кровати, свернувшись клубком у изножия.
— Сегодня больше не будет почесывания ни живота, ни за ушами, — сообщил я ему. — Я сейчас упаду, как самолет, лишившийся всех двигателей.
Зевнул он, конечно, фальшиво, потому что пришел сюда, чтобы пообщаться, а не спать.
Не имея сил надеть пижаму, я улегся в кровать в трусах. Судебный эксперт все равно всегда раздевает труп.
Натянув одеяло до подбородка, вспомнил, что не выключил свет в ванной. Несмотря на четыре миллиарда долларов, пожертвованные Джоном Хайнманом, братья в аббатстве живут скромно, из уважения к данному ими обету бедности. И не транжирят ресурсы, в том числе электроэнергию.
Свет находился очень далеко и удалялся с каждой секундой, а одеяло превратилось в камень. К черту, подумалось мне, я еще не монах, даже не послушник.
Я уже не был ни поваром (разве что пек оладьи по воскресеньям), ни продавцом автомобильных покрышек, стал никем. А людей, которые никто, совершенно не волнует стоимость потраченной зазря электроэнергии.
Меня тем не менее волновала. Но, несмотря на волнения, я заснул.
Мне приснился сон, но не о разлетающихся от взрыва телах. И не об охваченных огнем монахинях, бегущих сквозь снежную ночь.
В моем сне я спал, а потом проснулся, чтобы увидеть бодэча, стоящего у изножия моей кровати. Этот приснившийся мне бодэч, в отличие от тех, что я видел в реальном мире, сверлил меня яростным взором, а глаза его поблескивали отраженным светом от лампы, горящей в ванной.
Как обычно, я притворился, что не вижу чудовища. Наблюдал за ним, чуть разлепив веки.
Когда бодэч двинулся, он изменился, как это часто случается с вещами, существами или людьми во снах, и из бодэча превратился в хмурого русского, Родиона Романовича, еще одного гостя, который в настоящее время жил в монастыре.
Бу тоже нашлось место в моем сне. Он стоял на кровати, оскалив зубы, смотрел на незваного гостя, но не лаял.
Романович обошел кровать, направляясь к тумбочке.
Бу прыгнул с кровати на стену, словно кот, и полез наверх, отрицая гравитацию, по-прежнему глядя на русского.
Интересно.
Романович взял рамку, которая стояла на тумбочке рядом с часами.
В рамке, под стеклом, была маленькая карточка из ярмарочной машины, предсказывающей будущее, которая называлась «Мумия цыганки». На карточке написано: «ВАМ СУЖДЕНО НАВЕКИ БЫТЬ ВМЕСТЕ».
В моей первой рукописи я подробно описал историю этой карточки, которая для меня священна. Достаточно сказать, что Сторми Ллевеллин и я получили ее после первой же монетки, скормленной машине, после того как один парень и его невеста, стоявшие в очереди перед нами, на все свои восемь четвертаков получили только плохие новости.
Поскольку «Мумия цыганки» недостаточно точно предсказывала события в этом мире (Сторми умерла, и я теперь один), я знаю, что означает надпись на карточке: мы будем навеки вместе в следующем мире. И это обещание для меня важнее еды, важнее воздуха.
Хотя света из ванной не хватало, чтобы Романович мог прочитать надпись на карточке, заключенной в рамку, он ее все равно прочитал, потому что, будучи русским из сна, мог делать все, что ему заблагорассудится, точно так же, как лошади из сна могут летать, а пауки — откусывать головы младенцам.
Шепотом, с акцентом, он произнес эти слова вслух:
— Вам суждено навеки быть вместе.
Напыщенным, но мелодичным голосом, будто у поэта, и эти пять слов прозвучали, словно стихотворная строка.
Я увидел Сторми, какой она была в тот вечер на ярмарке, и дальше сон пошел про нее, про нас, про наше общее прошлое.
Менее чем через четыре часа беспокойного сна я проснулся, еще до зари.
За окном чернело небо, по стеклу сползали снежинки. В нижней части его прихватил мороз, и корочка льда перемигивалась красным и синим.
Часы на прикроватной тумбочке находились на прежнем месте, как и в тот момент, когда я рухнул в постель, а вот рамка с карточкой от гадалки — нет. Я не сомневался, что ночью она стояла перед лампой. А теперь вот лежала стеклом вниз.
Я отбросил одеяло и встал. Прошел в гостиную, включил свет.
Стул с высокой спинкой стоял под ручкой двери в коридор третьего этажа, как я его и поставил. Я попытался повернуть ручку. Спинка стула этого не позволила.
До того, как коммунизм лишил русских большей части их веры, у них была долгая история христианского и иудейского мистицизма. Однако они не cлавились умением проходить сквозь стены и закрытые двери.
Окно гостиной находилось тремя этажами выше уровня земли, и подобраться к нему по карнизу возможности не было. Я все равно проверил шпингалет и убедился, что снаружи открыть окно невозможно.
Увиденное мною ночью было сном, пусть без горящих монахинь и без пауков, откусывающих головы младенцам. Сном, и ничем больше.
Оторвав взгляд от шпингалета, я обнаружил источник красно-синего пульсирующего света на изморози в нижней части стекла. Пока я спал, толстое одеяло снега укутало землю, а на дороге в затылок друг другу выстроились три внедорожника «Форд Эксплорер», каждый со словом «ШЕРИФ» на крыше. Из выхлопных труб вырывался парок, мигалки вспыхивали то красным, то синим.
В полном безветрии продолжал падать снег. Я видел шесть лучей мощных фонарей. Невидимые мне люди, слаженно двигаясь, осматривали луг. Что-то искали.
К тому времени, когда я натянул термокальсоны, джинсы и толстый свитер под горло, надел лыжные ботинки, схватил теплую куртку, сбежал по лестнице, пересек гостиную и открыл тяжелую дубовую дверь, ведущую во внутренний дворик гостевого крыла, занялась заря.
Тусклый свет окрасил в серое колонны из известняка, которые окружали двор. Под крышей галереи темнота еще держалась, словно ночь не заметила прихода утра и не собиралась отступать.
Во дворе святой Варфоломей, без лыжных ботинок, присыпанный свежим снежком, по-прежнему держал тыкву на вытянутой руке.
В восточной части внутреннего дворика, напротив дубовой двери, из которой я выскочил, находился вход для гостей в церковь аббатства. Голоса, поющие молитву, и удары колокола долетали ко мне не из церкви, а из двух галерей, одна из которых находилась передо мной, а вторая уходила вправо.
Каменный коридор вел к главному внутреннему дворику, в четыре раза превосходящему гостевой. И окружала его более внушительная колоннада.
Сорок шесть братьев и пятеро послушников стояли под открытым небом, лицом к аббату Бернару, который находился на колокольном возвышении и одной рукой ритмично дергал за веревку колокола.
Matins закончились, и перед окончанием Lauds они все вышли из церкви для завершающей молитвы и обращения аббата.
Молитва называлась Angelus и на латыни звучала прекрасно, возносимая многими голосами.
Когда я вошел во внутренний двор, братья пели: «Fiat mini secundum verbum tuum». А потом аббат и все остальные добавили: «Ave Maria».
Два помощника шерифа стояли под колоннами, ожидая, пока монахи закончат молебен. Мужчины крупные и более суровые, чем монахи.
Они повернулись ко мне. По виду я не был ни копом, ни монахом, и неопределенность моего статуса вызывала интерес.
Смотрели они так пристально, что я бы не удивился, если бы в холодном воздухе от их глаз пошел бы такой же парок, какой слетал с губ при каждом выдохе.
Имея большой опыт общения с полицией, я знал, что нет смысла подходить к ним и советовать прежде всего обратить свое внимание на мрачного русского, каким бы чистым и пушистым ни выглядел он в этот момент. Если бы я так поступил, их интерес к моей особе возрос бы десятикратно.