Открывая книгу, Саймон заметил что-то знакомое и вернулся к внутренней стороне задней обложки. Вот там, как раз под хвалебной болтовней «Лайбрери джорнал», и была фотография автора.
— Так вот ты какой, Дэвид Свифт! — улыбнулся Саймон. — Очень, очень рад познакомиться.
Невзирая на уговоры Ларри, Пита и прочих участников мальчишника, Дэвид отклонил предложение сойти в Метучене — сказал, что жена его убьет, если он не поедет прямо домой в Нью-Брунсвик, но обещал как-нибудь вечером с ними посидеть в «Лаки лоунж». Вся пьяная компания по очереди попрощалась с ним хлопками по руке, а потом орала, построившись на платформе: «Фил! Фил! Фил!» — пока поезд не отошел. Дэвид отвечал поднятием больших пальцев.
Когда поезд отъехал от станции, Дэвида без сил рухнул на сиденье. Его трясло. Кондиционированный воздух казался невыносимо холодным. Сложив руки на груди, он потирал плечи, чтобы согреться, но не мог унять дрожь. Он понял, что произошло: посттравматический стресс, запоздалый ответ организма на страшные события последних часов. Закрыв глаза, он сделал несколько глубоких вдохов. «Сейчас все в порядке, — сказал он себе. — Ты мчишься прочь от Нью-Йорка. Ушел от всех погонь».
Дэвид открыл глаза, когда поезд подходил к вокзалу Нью-Брунсвика. Он уже перестал дрожать, в голове несколько прояснилось. Раньше Дэвид решил, что доедет на поезде до Трентона, там на автобус «Грейхаунд» до Торонто. Однако сейчас он начинал видеть дефекты этого плана. Что, если на автобусных станциях тоже проверяют документы? Не стоит рассчитывать, что опять встретится чей-то мальчишник. И на канадской границе его тоже может уже ждать полиция. Нет, слишком рискованно ехать на автобусе — разве что удастся раздобыть фальшивое водительское удостоверение. Но как это, черт побери, сделать?
Слишком разнервничавшись, чтобы сидеть спокойно, Дэвид принялся расхаживать по проходу почти пустого вагона. Пассажиров было только трое: две девчонки в коротких юбках и пожилой мужчина в свитере с ромбическим узором, тихо разговаривающий по сотовому. Мелькнула мысль позвонить по своему телефону Карен и Джонасу, но Дэвид знал: стоит ему включить мобильник, тот пошлет сигнал ближайшей антенне сотовой связи — и ФБР его засечет. И досаднее всего, что он беспокоился о свой бывшей жене — было у него чувство, что люди в серых костюмах имеют к ней вопросы.
Вскоре кондуктор объявил:
— Прибываем на Принстон-джанкшн. Пересадка на Принстонскую ветку до Принстона.
Наверное, дело было в повторении — три раза подряд «Принстон», — но Дэвид сразу вспомнил, кто мог бы ему помочь. Эту женщину он не видел уже почти двадцать лет, но знал: она по-прежнему живет в Принстоне. Маловероятно, чтобы ФБР стало ждать его возле ее дома: хотя наверняка бюро тщательно изучало его прошлое, вряд ли они о ней что-нибудь знают. И самое удачное, что она физик, один из пионеров теории струн. А у Дэвида было чувство, что лишь физик сможет как-то понять то, что он будет рассказывать.
Поезд остановился, дверь открылась. Дэвид вышел на перрон и направился к платформе ветки на Принстонский университет.
В 1989 году Дэвид еще аспирантом-физиком попал в Принстон на конференцию по теории струн. В то время научная общественность жужжала вокруг этой новой идеи, обещавшей решить одну давнюю проблему. Хотя теория относительности Эйнштейна объясняла гравитацию в совершенстве, а квантовая механика учитывала любые тонкости субатомного мира, обе теории оказывались математически несовместимыми. Тридцать лет пытался Эйнштейн объединить эти два набора физических законов с целью создать охватывающую их теорию, которая объяснит все силы природы. Но во всех опубликованных Эйнштейном решениях находились проколы, и после его смерти многие физики заключили, что он шел не в том направлении. Вселенная, говорили они, слишком сложна, чтобы ее можно было описать одной системой уравнений.
Однако где-то с семидесятых годов некоторые физики воскресили идею единой теории, предположив, что все элементарные частицы на самом деле — микроскопические струны энергии, не превышающие в длину триллионной доли от триллионной доли миллиметра. К восьмидесятым годам специалисты по теории струн уточнили свою модель, заявив, что струна колеблется в десяти измерениях, шесть из которых свернуты в многообразие слишком малое, чтобы его можно было увидеть. Теория была неясная, неполная и невероятно неуклюжая — и все же она зажгла воображение исследователей во всем мире. Среди них оказалась и Моника Рейнольдс, двадцатичетырехлетняя аспирантка физического факультета в Принстоне.
Дэвид впервые ее увидел на закрытии конференции в большой аудитории в Джедвин-холле. Моника стояла на подиуме, готовясь сделать доклад о многомерных многообразиях. Первое, что он заметил — какая она высокая: на голову выше усохшего декана физического факультета, который представил ее как «самую талантливую студентку, с которой мне когда-либо выпадало счастье работать». Дэвид подумал, уж не дышит ли старик к ней неровно, потому что девушка была не только высокой, но и красивой. Лицо — как у статуй Афины, древнегреческой богини мудрости, но вместо шлема — корона затейливо заплетенных косичек и кожа цвета кофе с молоком. Длинное красно-желтое платье с африканским орнаментом закрывало плечи, на коричневых руках висело по несколько браслетов. В полумраке Джедвин-холла она сверкала, как дождь частиц.
В восьмидесятых женщины-физики встречались нечасто, а уж черная женщина, теоретик и специалист по струнам — это был подлинный раритет. Ученые в аудитории смотрели на нее как на всякую диковинку — со смешанным чувством уважения и скепсиса. Но как только она начала доклад, ее тут же приняли как свою, потому что говорила она на их языке — трудном языке математики. Подходя к доске, она выписывала длинные цепочки формул с символами, обозначающими основные параметры вселенной: скорость света, гравитационная постоянная, масса электрона, константа сильного взаимодействия. Потом с легкостью, которой Дэвид мог только завидовать, она стала преобразовывать частокол символов и свела его к единственному изящному уравнению, описывающему форму пространства вокруг вибрирующей струны.
Все шаги изложения Дэвид проследить не мог: к этому моменту своей аспирантской жизни он уже осознал пределы своих математических способностей и когда видел такую потрясающую технику, как у Моники, испытывал лишь досаду и зависть. Но сейчас, когда она творила на доске это волшебство выкладки и отвечала на вопросы коллег, он никакой горечи не испытывал. Ее силе он сдался без борьбы. Когда она закончила доклад, он вскочил и пробился к сцене, чтобы представиться.
Услышав имя Дэвида, Моника с радостным удивлением подняла брови:
— Конечно, я вас знаю! — воскликнула она. — Только недавно читала вашу совместную статью с Гансом Кляйнманом. Относительность в двумерном пространстве, да? Очень симпатичная работа.
Она хлопнула его по ладони и стиснула руку. Дэвид был ошарашен — не может быть, чтобы она и правда читала эту статью.
— Да это же ерунда, — ответил он. — Если, скажем, сравнить с вашей работой. Потрясающий был доклад. — Он не успел придумать более разумный комплимент и остановился на банальном: — Я просто поражен — нет, правда…
— Так, хватит! — Она очаровательно засмеялась, высоко и звонко. — А то я себя чувствую как кинозвезда! — Она придвинулась к нему на шаг и положила руку ему на предплечье, будто они давние друзья. — Так вы из Колумбийского? Как там факультет?
Они проговорили несколько часов, сперва переместившись в комнату отдыха преподавателей, где Дэвид познакомился еще с несколькими аспирантами принстонского физического факультета, потом в местный ресторан под названием «Ржавый водосток», где небольшая группа физиков обсуждала под «маргариты» относительные достоинства своих теорий. Через пару рюмок Дэвид признался Монике, что понял не все моменты ее доклада, и она с удовольствием объяснила ему пробелы, терпеливо излагая математические преобразования. Еще через пару рюмок он ее спросил, как она заинтересовалась физикой, и она ответила, что ее отец, не преодолевший девятого класса, все время придумывал интересные теории о том, как устроен мир. К полуночи Дэвид и Моника остались последними посетителями ресторана, а в час ночи уже жадно вцеплялись друг в друга на диване в квартирке Моники.
Для Дэвида такая последовательность событий была достаточно обычной. Он как раз находился в середине полугодового запоя, который затуманил весь его второй год аспирантуры, а когда он пил с женщиной, то обычно старался уложить ее в постель. Хотя Моника была красивей и умней тех женщин, с которыми он спал, она была типична в другом отношении — импульсивна, одинока и будто скрывала несчастность. И все так и шло обычным путем, но когда Моника встала с дивана и расстегнула молнию на африканском платье, все пошло по-иному. Увидев ее обнаженное тело, Дэвид заплакал, и так это было неожиданно и непонятно, что он сначала подумал, будто плачет Моника, а не он, и удивился: «С чего это она? Я чем-то ее обидел?»
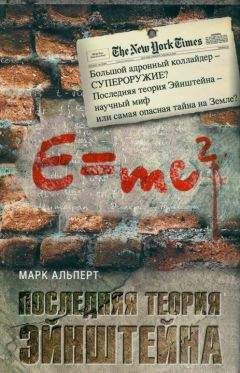
![Константин Аксаков - Вальтер Эйзенберг [Жизнь в мечте]](https://cdn.my-library.info/books/158291/158291.jpg)

